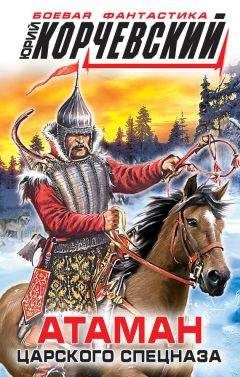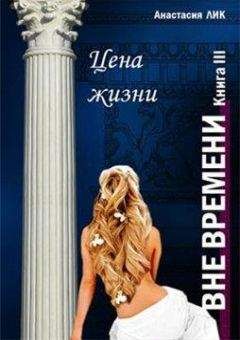Юрий Крутогоров - Повесть об отроке Зуеве
— Все про все и я знаю, — усмехнулся Ерофеев. — Кто ныне чего не знает!
— Что, например, есть долгота?
— А как долгонько жрать да пить нечего, вот и долгота. Спасибо, что выручил, а наука там не наука — бог разберет.
Когда Шумский показал чучела, сложенные в фуре, Ерофеев воскликнул:
— Фу-ты, страх какой. Вроде живые, а глаз стеклянный. Это ж кого пугать?
— Таких дураков, как ты. Это не для испуга делается. Поглядит народ в музее, сразу уяснит, где какой зверь, какая птица водится в натуральном виде. Гербарии опять же, гляди. Для ботаники первейшее дело. Вот эти собирал Соколов, эти Вальтер, а эти малец наш.
— Сам-да-сам?
— Сам-да-сам.
— Я полагал, в лакеях у их сиятельства ходит…
— Нет у нас лакеев, — осерчал Шумский. — У науки нет лакеев, а одне служители. Одни поменее, другие поболее, кому что дано.
На столе, за которым работал Паллас, Ерофеев увидел несколько книжек петербургского Месяцеслова. Полистал.
— А можно, ваше сиятельство, почитаю сию книжечку?
— Читать-то обучен?
— Всенепременно.
7При трех свечах Паллас дописывал отчет о последних своих наблюдениях.
Тени от фитилей игривы, как кошачьи лапки. Огоньки клонились от легкого дыхания.
Писал он по-немецки. Фразы длинные, словно растянувшийся обоз, со множеством сослагательных наклонений. Он был уверен: когда бы дать надлежащее направление ремеслам, использовать потаенные в недрах минералы и жидкости, тогда бы Россия превзошла самое себя, взяла бы верх над Европой.
С полевых работ вернулись Вальтер, Соколов, Зуев. Отряхиваются от дождя по-собачьи. Скидывают мокрые рубахи, порты. Васька, обнявши себя, отфыркивается, прыгает на тонких ногах, выдувая стынь. Обжигаясь, пьет дочерна заваренный чай, жует сухую лепешку.
— Спать, спать! — приказывает Паллас.
Зуев прокрадывается в темный закуток, зажигает масленый фитиль.
«…Спешу уведомить, что, медленно поспешая, научный отряд движется к Уралу, — пишет он товарищам по гимназии письмо. — К северу от Симбирска увидел множество сусликов и сурков. Тут суслики покрупнее обычных. Стоят стоймя, как шахматные фигурки. Хвост мохнатый лежит на земле. Бегал за зайцем и усмотрел, что заяц в кустарниках роет глубокие норы, из них обычно выходит в поздние сумерки и кричит, как перепелка. Шумский ругался, что зайца не изловил для чучела. Но больно хорош был тот косой. Я полагаю, ему более идет быть живым, чем со стекляшком заместо глаз. А еще хочу сообщить, что по всей южной Волге живут тарантулы. Крестьянские дети играют с ними, вытягивают из них паутинку. Красные же утки гнездятся в крутых берегах и в норках, брошенных сурками. Они кладки яиц оставляют на берегах и таскают своих детенышей в носах к воде.
Вот рассказ об одном местном знахаре, который учил экспедицию уму-разуму. Не знахарь, а домашний лечебник. Все ведает про то, как и чем лечить. Но тут явился другой знахарь. Забавно было слушать, как заспорили: какое средство более всего помогает от укуса бешеной собаки. „Повилика!“ — кричит один. „Горечавка!“ — настаивает другой. „Повилика!“ — „Горечавка!“ — „Повилика!“ — „Горечавка!“ Каждый из кожи вон лезет доказать, что он знахарее.
Недавно угодил я в полон к местным мужикам, полагавшим, что я убег с этапа. Уж чем бы и кончилось — не знаю. Да выручили меня члены команды нашей Вальтер и Соколов. А так бы и угнали меня в Сибирь по этапу.
Вот такая, друзья мои, повилика-горечавка.
Мишенька, сбегай в Семеновскую слободу да выведай про отца-мать и отпиши на Челябу.
Остаюсь Васька Зуев». 8Из светлицы в домашнем халате вышел Паллас.
— Сочиняешь?
— Письмо, Петр Семенович.
— Родителям?
— Гимназическим товарищам моим. Да, пожалуй, ныне они уж и студенты.
— Да, да, — задумался Паллас. — Студенты… А я, Василий, прочитал твой отчет о сонной крысе. Натуралиста обнаруживаешь в слоге. Это весьма важно.
Положил руку на плечо мальчику.
— Исхудал ты.
— Да я так, — смутился Зуев. — Лишь бы кости были…
— В Челябу приедем — отдохнем. Зазимуем. И я, братец, устал. То ноги заломит, то голову сдавит.
— Бегаете много, Петр Семенович. И сочиняете вон сколько.
— Сочиняю, — согласился Паллас.
— Потом и книга получится.
— Об том пока не помышляю. Замысел один: не растерять увиденного. Ладно, иди спать — носом клюешь.
— На нос что смотреть? Я в одной книжке читал: нос есть средственное напереди лица пустое возвышение.
— Как, как? Ха-ха-ха-ха…
Вася взбирается на полати, устраивается рядом со спящими студентами.
За окном вызвездило небо.
Восемь вечера, а темень непроглядная.
Скоро осень.
Тишина такая, что слышно, как в соседней комнате Паллас задувает свечу.
9Вечером у костра в кругу мужиков Ерофеев раскуривал чубук, ерошил прутиком угольки. На вертеле жарился заяц.
— Ох, отведаем свежего мясца, — радовался вольный казак. — Чего не едал за свою бедолажную жизнь, а жареной зайчатине нет замены.
— Много маялся по свету? — спросил ямщик с плоским, как оладья, носом.
— Всего, братцы, повидал, все не расскажешь. В степи ночевал, в бору на медведя ходил, на Каспии тонул, турка и того воевал. Всякого народу видел.
Мужики тянулись к словоохотливому дончаку, чувствовали в нем силу, удаль бывалого человека. Вдруг какой-нибудь пьяненький мужичок поинтересуется:
— Вот ты говоришь: всякого народу повидал. А что говорит наука про людское население всея земли? Народов-то ныне много живет?
— Мно-о-ого! Считай, цельный миллиард.
— Одних людей?
— А кого ж еще?
— Миллиард! — присвистывали мужики.
— А скажу такое, — гордился Ерофеев, — что народ все прибывает и прибывает.
— Поди ж ты.
— Да. — Ерофеев поворачивал на вертеле зайца и еще больше изумлял мужиков. — По непременному течению природы в феатр мира ежедневно вступает по шестнадцать тысяч человек.
— Цельное войско?
— Выходит, так. — Щурил глаза от дыма, прибавлял к себе еще больше уважения. — Да, где не был, чего не видал! Только что еще не побывал в преисподней.
— Это успеется!
— Тут давеча с одним крестьянином толковал. В ихней деревне дом в преисподнюю провалился, — говорил Ерофеев. — С крышей, трубой, так и загинул в земной глыби.
— Сказки сказываешь, — засомневались мужики.
К костру подсел Зуев, услышал россказни вольного казака.
— Врать ты, Ерофеев, горазд.
— Нет, не вру.
— Где ж эта деревенька?
— Да сказывал мужик — верст пять отседова будет. Меня самого за живое забрало: как это, думаю, дом в преисподнюю ухнул? Божился, что так и было. — Ерофеев снял с вертела поджаренного зайца: — Покушай, наука…
Об услышанном Зуев рассказал Палласу.
— Так дом и загинул в земной глыби?
— Ерофеев так говорит…
— А сам ты как полагаешь?
— Да сказки!
Паллас сдернул со стены черный свой плащ, натянул на ноги щегольские ботфорты.
— Учу их, учу! Вдалбливаю в головы простые вещи — не доверяться молве, а единственно лишь наблюдению, на шкуре все испытать. Что же слышу?
Паллас притопнул ботфортами, удобнее уместил в них ноги.
— Подать лошадей. Вальтер, Соколов!
— Куда же, Петр Семенович?
— А в преисподнюю!
Деревня, где дом рухнул в преисподнюю, оказалась близлежащим мордовским селом.
Паллас в черном плаще и ботфортах напоминал рыцаря, неизвестно как попавшего в эти русские места с темными перелесками, с грязной дорогой, с узкой речушкой, петляющей в ивовых зарослях. Студенты же и гимназист Зуев в латаных рубахах и штанах мало чем напоминали оруженосцев, какими их изображали в рыцарских книжках. Вид у Васи был самый удрученный, он никак не мог опомниться от разноса, который учинил ему разгневанный Паллас. Несправедлив к нему Петр Семенович. Жалеет, видать, что взял в экспедицию. Да и какой, верно, от него толк: доверяется молве, на собственной шкуре ничего не испытывает. Не вышел из него натуралист, только что и умеет — блины печь…
Мальчишки бежали вслед странной для этих мест кавалькаде, всадникам низко кланялись женщины. Одеты пестро, ярко, нарядно. Головные уборы увешаны бубенцами, пояса окаймлены бахромой, на подолах погремушки. «Наряд, как конский убор», — отметил Вася.
— Встречают, точно генералов, — ухмыльнулся ехавший рядом Никита и осанисто выправил грудь. — А ты что, Васька, хмур?
— А что веселиться, ежели Паллас осерчал…
— За что?
— Молве доверяюсь, а не наблюдению.
— Эка беда.
— Он памятливый, черт. Досадно мне. Отправит назад на перекладных — как тогда?