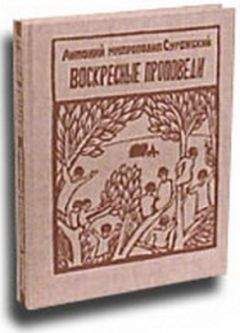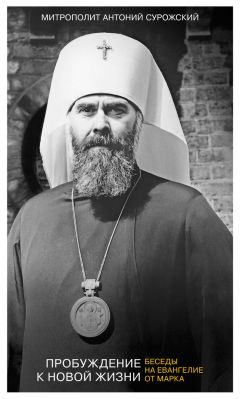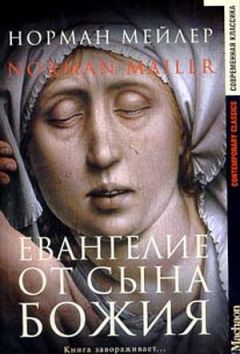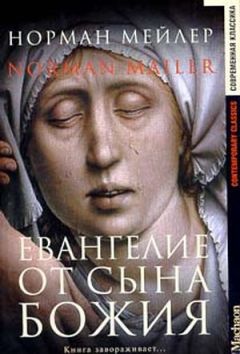Дэвид Митчелл - Тысяча осеней Якоба де Зута
Тукан стучит клювом по оловянной миске и произносит: «Гр-рубый!» — или что‑то похожее.
— Господин Маринус, — Якоб краснеет, — вы, к сожалению, неправильно истолковали мои намерения. Я никогда бы…
— На самом‑то деле, похоть вызывает у вас даже не сама госпожа Аибагава. Вы теряете голову от одного только вида «восточной женщины». Да-да, загадочные глаза, камелии в волосах, то, что вы принимаете за кротость. Я повидал не одну сотню одурманенных белокожих мужчин, погружающихся в эту же самую сладостную пучину.
— Но в моем случае вы не правы, доктор. У меня нет…
— Естественно, я не прав. Домбуржец обожает свою Жемчужину Востока лишь как благородный рыцарь: приходит на помощь обезображенной деве, отвергнутой ее соотечественниками! Славный Рыцарь Запада, единственный, кто пришел в восторг от ее внутренней красоты!
— Доброго дня, — Якоб более не в силах выдерживать это словесное бичевание. — Доброго вам дня.
— Уходите так скоро? Даже не предложив взятки, которая у вас под мышкой?
— Это не взятка, — полуложь, — а подарок из Батавии. Я надеялся, — теперь понимаю, что глупо и напрасно, — завязать дружеские отношения со знаменитым доктором Маринусом, и потому Хендрик Звардекрон из Батавского общества порекомендовал мне привезти вам ноты. Но, как я сейчас вижу, невежественный клерк недостоин вашего августейшего внимания. Я более не побеспокою вас.
Маринус пристально смотрит на Якоба.
— Что это за подарок, если даритель не предлагает его, пока ему что‑то не понадобилось от одариваемого?
— Я пытался отдать его вам при нашей первой встрече. Вы захлопнули крышку люка перед моим носом.
Илатту обмакивает лезвие в воду и протирает его клочком бумаги.
— Вспыльчивость, — признается доктор, — иной раз берет верх надо мной. А кто… — Маринус нацеливает палец на нотную папку, — …композитор?
Якоб читает заглавие: «Шедевры Доменико Скарлатти для клавесина или фортепиано, избранное из коллекции манускриптов, собранной Муцио Клементи… Лондон, которые можно приобрести у господина Броудвуда, изготовителя клавесинов, на Грэйт-Палтни-стрит, Голден-сквер».
Кричит дэдзимский петух. Громкий топот доносится с Длинной улицы.
— Доменико Скарлатти, да? Долгий он прошел путь, чтобы попасть сюда.
Безразличие Маринуса, подозревает Якоб, слишком нарочитое, чтобы быть искренним.
— Теперь ему предстоит не менее долгий обратный путь, — Якоб поворачивается к двери. — Не смею больше вас тревожить.
— О-о, подождите, Домбуржец. Дуться вам не к лицу. Госпожа Аибагава…
— Не куртизанка, я знаю. Не представляю ее себе такой. — Якоба так и подмывает рассказать Маринусу об Анне, но он не доверяет доктору до такой степени, чтобы открыть ему свое сердце.
— А какой, — спрашивает Маринус, — вы ее себе представляете?
— Как… — Якоб ищет подходящее сравнение. — Как книгу, обложка которой завораживает и очень хочется посмотреть страницы. Ничего более.
Сквозняк распахивает скрипучую дверь лазарета.
— Тогда позвольте сделать вам предложение: вернитесь сюда к трем часам, и у вас будет двадцать минут в лазарете на знакомство со страницами, которые госпожа Аибагава соблаговолит вам показать, — но дверь при этом останется открытой все время, и как только вы выкажете хоть на йоту меньше уважения, чем выказали бы своей сестре, Домбуржец, мой гнев будет вселенским.
— Тридцать секунд встречи за каждую сонату… слишком уж дешево.
— Тогда вам и вашему подарку известно, где находится дверь.
— Сделка не состоялась. Доброго вам дня, — Якоб выходит и щурится от поднимающегося к зениту солнца.
Он идет по Длинной улице к Садовому дому, останавливается и ждет, стоя в тени.
В это жаркое утро цикады стрекочут очень уж громко и пронзительно.
Под соснами смеются Туоми и Оувеханд.
«Дорогой Иисус, — думает Якоб, — как же мне здесь одиноко!»
Илатту не послан ему вслед. Якоб сам возвращается в больницу.
— Ну что же, по рукам. — Бритье Маринуса закончено. — Но мы должны обдурить шпиона. Моя лекция после обеда будет о человеческом дыхании, и я предполагаю наглядно иллюстрировать свои слова. Я попрошу Ворстенбоса прислать вас в качестве демонстратора.
Якоб слышит собственный голос: «Согласен».
— Поздравляю, — Маринус вытирает руки. — Маэстро Скарлатти, если позвольте?
— Но вознаграждение выплачивается по исполнении.
— О? Моего слова джентльмена недостаточно?
— Буду у вас без пятнадцати три, доктор.
Фишер и Оувеханд замолкают, как только Якоб входит в бухгалтерию.
— Приятно и прохладно, — говорит вошедший, — здесь, по крайней мере.
— А по мне, — Оувеханд поворачивается к Фишеру, — жарко и муторно.
Фишер фыркает, как конь, и удаляется к своему столу, самому большому.
Якоб, надев очки, оглядывает полку, где должны лежать гроссбухи последнего десятилетия.
Только вчера он вернул туда тома с записями, начиная с 1793 года и заканчивая 1798–м, а теперь их там нет.
Якоб смотрит на Оувеханда; Оувеханд мотает головой в сторону сгорбившейся спины Фишера.
— Вы не знаете, где находятся тома с девяносто третьего по девяносто восьмой годы, господин Фишер?
— Я знаю, где что находится в моем кабинете.
— Тогда соблаговолите сказать, где найти гроссбухи с девяносто третьего по девяносто восьмой годы?
— Зачем они вам понадобились… — Фишер оглядывает кабинет, — конкретно?
— Чтобы продолжить работу, порученную мне директором Ворстенбосом.
Оувеханд нервно бубнит себе под нос мелодию какой‑то веселенькой песенки.
— Ошибки, — Фишер выделяет каждое слово, — здесь, — пруссак с грохотом кладет перед собой кучу книг, — случаются не потому, что мы обманывали Компанию, — он запинается, — а потому, что Сниткер запретил нам вести точные записи.
Дальнозоркий Якоб снимает очки, и лицо Фишера чуть расплывается.
— Кто обвинил вас в обмане Компании, господин Фишер?
— Мне надоело… вы слышите? Надоело! Это нескончаемое следствие!
Сонные волны мерно бьются о Морскую стену.
— Почему директор, — спрашивает Фишер, — не поручил мне восстановить бухгалтерские книги?
— Но это же логично: назначить проверяющим человека, никак не связанного с правлением Сниткера.
— Значит, я тоже вор? — ноздри Фишера раздуваются. — Признайтесь! Вы копаете под нас всех! Только попробуйте это отрицать!
— Директор хочет только одного, — отвечает Якоб. — Достоверности.
— Моя логика, — кричит Фишер, угрожающе тыча указательным пальцем в сторону Якоба, — уничтожит вашу ложь! Берегитесь, в Суринаме я застрелил больше чернокожих, чем клерк де Зут сможет сосчитать на своем абаке. Нападете на меня, и я раздавлю вас, как таракана.
Вот так. — Вспыльчивый пруссак передает гору гроссбухов в руки Якоба. — Вынюхивайте, ищите «ошибки». Я иду к господину ван Клифу, чтобы обсудить… увеличение прибыли для Компании в этом торговом сезоне!
Фишер нахлобучивает шляпу и уходит, хлопнув дверью.
— Это комплимент, — говорит Оувеханд. — Вы заставили его занервничать.
«Я лишь хочу исполнить свой долг», — думает Якоб.
— Занервничать из‑за чего?
— Из‑за десяти дюжин ящиков, помеченных «Камфора из Кумамото», отгруженных в девяносто шестом и девяносто седьмом годах.
— В них перевозили совсем не камфору из Кумамото?
— Камфору, но на четырнадцатой странице наших книг указаны двенадцатифунтовые ящики, а в японских книгах, как скажет вам Огава, записано тридцатишестифунтовые, — Оувеханд идет к кувшину с водой. — В Батавии, — продолжает он, — некий Иоханнес ван дер Брок, таможенник, продает излишек. Зять члена совета Ост-Индской компании ван дер Брока. Легко и изящно. Воды?
— Да, пожалуйста. — Якоб пьет. — И вы рассказываете мне об этом, потому что…
— Инстинкт самосохранения, ничего больше. Господин Ворстенбос здесь на пять лет, да?
— Да, — Якоб врет, потому что должен. — И я отработаю с ним свой контракт.
Жирная муха неторопливо выписывает овал сквозь свет и тени.
— Когда Фишер прозреет и сообразит, что обхаживать и умасливать надо Ворстенбоса, а не ван Клифа, он вонзит нож в мою спину.
— И каким ножом, — Якоб уже знает следующий вопрос, — он сможет это сделать?
— Можете ли вы обещать, — Оувеханд чешет шею, — что со мной не поступят, как со Сниткером?
— Обещаю, — у власти неприятный привкус, — заверить господина Ворстенбоса, что Понк Оувеханд помогал, а не скрывал.
Оувеханд обдумывает слова Якоба.
— В прошлом году в записях частной торговли указано, что я привез пятьдесят рулонов индийского ситца. Записи с японской стороны покажут при этом продажу мной ста пятидесяти рулонов. С разницы капитан «Октавии» Хофстра взял половину, хотя, конечно же, доказать я не могу, да и он тоже: упокой Господь его утонувшую душу.