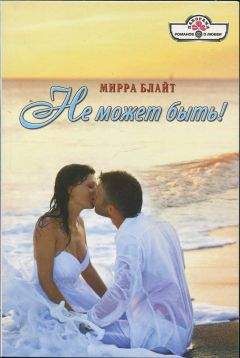Луи Арагон - Страстная неделя
— Я! — воскликнул Теодор.
Отец удивленно взглянул на сына и пожал плечами. О чем это он бишь говорил? Ах да…
— Так вот, нашелся один англичанин, который взял эту миссию на себя… Он свой человек у герцогов Орлеанских и на улице Шантрен… зовут его Киннард.
— Лорд Чарльз? — осведомился Теодор. — Любитель искусств?
— Как, и ты его знаешь? Ты им интересуешься? Возможно, именно он подал ей эту мысль… Тут ведь столько мастерских. Она и укрылась здесь. В Новых Афинах человек может затеряться, как иголка в стоге сена… А так как Фортюне Брак служил когда-то офицером под началом Лефевр-Денуэтта, выходит — все они одним миром мазаны… Вот они и помогают друг другу…
Лефевр-Денуэтт, Фортюне Брак! И при чем тут Фуше? Все эти имена смешались в голове Теодора. Странный это был квартал; здесь в течение последнего года все события, сама жизнь пошли для него дорогой горечи и разочарования. На углу улицы Сен-Лазар, где он только что пронесся галопом, находился особняк маркиза Лагранжа, командира черных мушкетеров; Теодор не раз видел там гвардейских офицеров, являвшихся по начальству, а вечерами — вереницу колясок, откуда выходили разряженные гости и следовали к дому, сопровождаемые лакеями, освещенные светом хрустальных люстр, падавшим из открытых окон. Маркиз Лагранж так же, как и Ло де Лористон, был героем наполеоновских войн. Их кумир ныне повержен, но они сохранили свои особняки, свои эполеты, свои капиталы в этом хороводе битв и празднеств, в котором закружило Империю. Буквально в трех шагах отсюда, рядом с улицей Сен-Жорж, на улице Победы, которую местные обыватели по-прежнему именовали улицей Шантрен, стоял особняк Лефевр-Денуэтта, принадлежавший ранее Жозефине Богарнэ{23} и после 18 брюмера поднесенный Наполеоном в дар своему соратнику по государственному перевороту; и в особняке Лагранжа, и в особняке генерала Лефевр-Денуэтта жизнь текла на один лад, и хотя сам генерал находился на казарменном положении, супруга его устраивала пышные приемы, и местный люд, собираясь у ворот, с неодобрительным любопытством глазел на великосветскую публику, выходившую из экипажей, и среди все тех же дам в роскошных туалетах, среди господ офицеров все в той же форме толпа не без волнения узнавала госпожу Сен-Лэ, которая в глазах парижан по-прежнему была королевой Гортензией. А красавец щеголь, сопровождавший ее, — это Шарль де Флаго, ее любовник и, по утверждению молвы, побочный сын Талейрана. Лейтенант Дьедонне, школьный товарищ Теодора, послуживший моделью для картины, написанной в 1812 году, тот, что заставил художника поверить в свой талант, в свою грядущую славу… так вот Дьедонне, до отбытия 1-го егерского полка в январе месяце в Бетюн, бывал у генеральши вместе со своим приятелем Амедеем, сыном Реньо де Сен-Жан-д’Анжели… последний тоже был офицером и служил под командованием Лефевр-Денуэтта, а с ними и юный Депан де Кюбьер… Фортюне Брак с гордостью рассказывал Дьедонне, как Амедей и Депан представили его госпоже Сен-Лэ, и больше нежели бранными делами гордился он успехами в этом обществе, чем обязан был своему прекрасному голосу. Теодор чуть-чуть завидовал этим брюмеровским аристократам и их сыновьям, сам он уж никак не мог считаться ровней этим людям, овеянным воинской славой, отмеченным крестами и увечьями.
По недовольному лицу господина Жерико чувствовалось, что господин Жерико не расположен откровенничать с сыном в присутствии мадемуазель Мелани. Он увел Тео в библиотеку якобы затем, чтобы не мешать экономке спокойно накрывать на стол. Библиотека — огромная комната — выходила на противоположную сторону двора. Если слегка высунуться в окно, видны черные деревья, выстроившиеся парами, как солдаты в строю, а за ними угадывались очертания греческого храма… О чем это толкует отец, чего добивается? Чтобы он, Теодор, дезертировал?
Они, эти воины, ровесники Теодора, чувствовали себя на равной ноге с хозяевами салонов, куда для него был закрыт доступ, они, его ровесники или те, что старше Теодора на два-три года, с которыми он встречается у Фраскати, как, например, с Шарлем де Флаго или лейтенантом де Лавестин. А вот Марк-Антуан был бы им ровней: он, виконт д’Обиньи, мог принимать их у себя в родительском доме на улице Сент-Онорэ, — ведь их разделяли только политические взгляды. Это был особый мир аристократических особняков. Это был мир, который он, Теодор, пытался запечатлеть на полотне. В его героях, в его моделях люди видели лишь офицера конных егерей где-нибудь под Экмюлем или Тильзитом… гарцующего, как на картине, написанной в 1812 году, или солдата, упавшего возле раненого коня на французскую землю где-нибудь под Лонгви или Денэном, его «Кирасира 1814 года», выбитого из седла отступлением Великой армии. Но он-то, Теодор, отлично знал, что голову егерского офицера с жесткими белокурыми висячими усами он списал с Дьедонне, а для торса моделью послужил Марк-Антуан. Просто два императорских воина, — и все тут. Только два года спустя он смутно почувствовал, что создал некоего гибрида, чудовищную смесь из республиканца и гренадера, служившего под знаменем Ларошжаклена… так же, как ощутил и раздиравшие его самого противоречия. Так или иначе, это его ошибка, что, выставляя в Салоне картину, он дал ей название «Портрет господина Д., офицера конных егерей», когда нужно было пустить ее как некое анонимное изображение воина, заслужившего свои нашивки в пороховом дыму, ценою собственной крови…
Интересно, каков из себя этот барон Лаллеман, назначенный по распоряжению Людовика XVIII префектом Эны, который в двадцать лет сражался в Сан-Доминго, в тридцать — в Испании и получил чин генерала, когда союзники захватили Францию? Это о нем думает она в своем домике, сложенном из крашеного кирпича, среди обнаженных деревьев укромного садика этой поддельной деревни, это о нем думает она, креолка, вывезенная с Антильских островов, похожая на трепещущую и слабую пичужку, та, которую Теодор с минуту держал в своих объятиях. «Вполне представляю себе, что говорила ей генеральша Лефевр-Денуэтт, убеждая переехать сюда. «Здесь, милочка, совсем особенный уголок, ну кто станет искать вас среди этих бараков, где живут люди весьма скромного достатка, все их богатство — это кролики и утки да несколько горшков с цветами, есть тут огородники и ремесленники, а кругом наши, надеюсь, вы меня понимаете, люди нашего положения, например, Фортюне, который был адъютантом у славного генерала Кольбера, впрочем, они все простые солдаты, как, например, этот милейший Мобер, что ковыляет на своей деревяшке, и только вообразите: бродит по всему кварталу и вступает в разговоры с торговками… Словом, разные ремесленники, натурщики, живописцы, они тут понастроили бог знает из чего мастерских, вечерами через забор виден фейерверк в саду Руджиери, слышно пение, музыка…»
— О чем это ты задумался? — вдруг нетерпеливо воскликнул отец. — Я тут разглагольствую целый час, а он — держу пари — ни слова не слышал! А ну, пойдем завтракать! Неудобно заставлять ждать мадемуазель Мелани.
Цикорный салат удался на славу. Нет нужды спрашивать, чьих рук он творение. По праздникам на кухне оставалась лишь судомойка. А когда мадемуазель Мелани берется сама за стряпню, пальчики оближешь.
Так вот по каким, оказывается, причинам эта дама не переносит его формы. Теодор тоже начинал ненавидеть свой красный мундир. Не то чтобы он одобрял намерения генерала Лаллемана, решившего повернуть свои войска против короля. Но стоит ли, вообще говоря, отправляться в Мелен? Драться против своих же французов… Так или иначе, для нее муж-узник стал сейчас подлинным героем. Он же, Теодор, хоть и просил прощения за свой поступок, однако недостаточно просил, а вдруг ей сделалось по-настоящему худо… ведь из-за пустяка в обморок не падают…
— Ты вполне можешь укрыться здесь, время само покажет, как следует поступать; я же тебе говорю, что Новые Афины — самое идеальное место для того, кто хочет ускользнуть от полиции. Проходишь через наш двор, пересекаешь поля, и ты на Монмартре или, наоборот, спустишься по аллее к улице Сен-Лазар; скажем, за тобой бегут, ты петляешь и тропинками добираешься до Клиши… или поворачиваешь в противоположную сторону к улице Тур-де-Дам… заходишь в сад Руджиери и среди тамошней ослепляющей роскоши проскользнешь между столиками, тогда ищи тебя, свищи… или же смешаешься с публикой, пирующей где-нибудь в кабачке на улице Мучеников! Или еще где…
Теодор не почувствовал негодования. Даже не удивился тому обстоятельству, что отец заранее считает их, мушкетеров, объявленными вне закона. Он рассеянно слушал господина Жерико. Он думал: «Баронесса Лаллеман… Каролина… ее зовут Каролина… значит, если я останусь, я могу видеть ее каждый день… ну, а дальше что? Все это несуразица». Он думал еще: «Я могу написать ее портрет». И еще: «Она ненавидит меня за то, что я служу в королевской гвардии». Так проходил семейный обед у господина Жерико.