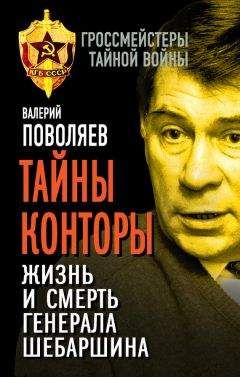Валерий Поволяев - Жизнь и смерть генерала Корнилова
Рядом с капитаном гулко, оглушая его, грохнул ещё один револьверный выстрел — это стрелял Керим. Его пуля также попала в волка — в лобастого, ясноглазого вожака, меткая пуля Керима всадилась волку прямо в голову, вынесла из черепа глаз, и зверь плоско, неуклюже распластался на камнях. Следом из револьвера ударил Мамат, но его выстрел не задел волков — пуля высверкнула ярким огоньком, всадилась в ближайший камень и застряла в нём.
— Хорошая добыча, господин, — обрадованно вскричал Керим, — из волчьих шкур получаются великолепные шапки.
Мамат спрыгнул с кошмы и помчался к лошадям — надо было успокоить их, обнял одну лошадиную морду, потом другую, третью, в этом общении человека с лошадьми было сокрыто что-то трогательное, очень тёплое; Керим, поёживаясь, пошёл к растворяющемуся в сером сумраке волку, неподвижно вытянувшему длинные сильные лапы.
— Осторожно, Керим, — предупредил Корнилов, — волк может притворяться.
— Знаю, господин. — Керим остановился, покрутил барабан в револьвере, выковырнул стреляную гильзу, вставил в освободившееся гнездо новый патрон. С громким клацаньем взвёл курок. Бой у его револьвера был зверским, сильным, как у винтовки, оружие с таким боем обычно не отказывает, это Корнилов знал по своему опыту.
На всякий случай капитан прокрутил барабан в своём револьвере, также выколупнул из него стреляные гильзы. Приготовил оружие к стрельбе. Керим подошёл к мёртвому волку, ткнул его ногой.
— Готов! — проговорил он спокойно, пошёл к следующему волку, кучей бесформенного смятого тряпья лежавшему на камнях.
Корнилов поспешил следом, присел перед убитым зверем на корточки, стволом револьвера приподнял ему окровавленную верхнюю губу, с интересом оглядел обнажившийся длинный клык. С другой стороны пасти виднелся второй клык, перебитый пулей и испачканный кровью.
По шкуре мёртвого зверя неожиданно пробежала дрожь, Корнилов понял, что происходит некое возвращение живого духа в мёртвое тело, агония после агонии, словно бы душа волчья что-то забыла в изломанном, измятом теле, лапы волка зашевелились, будто он собирался вскочить, и замерли. Всё. Волк был мёртв. Душа окончательно покинула это тело.
Голодно здешнему зверью в горах зимой, вот волки и жмутся к людям. От них не отстают и барсы. На что уж гордое животное — снежный барс, никогда в жизни не опускает головы, обладает величайшей храбростью, и то голод заставляет его идти к человеку.
Тем временем Керим подтащил первого волка к зверю, которого рассматривал капитан, оставил его в трёх метрах, пошёл за третьим волком, сумевшим уползти в камни. Через несколько секунд раздался выстрел — третий волк оказался жив. Подпустил к себе Керима и поднялся на дрожащих лапах, собираясь совершить прыжок. Человек оказался проворнее волка, всадил пулю в упор.
Волк захрипел и лёг на камни, Керим несколько минут постоял над ним, держа оружие наготове и глядя, как дрожь волнами прокатывается по пушистой шкуре, он думал, что волк поднимется вновь, но тот не поднялся, из пасти у него вырвался горький стон, голова дёрнулась, и зверь замер. Теперь уже навсегда.
Ухватив волка за заднюю лапу, Керим оттащил его к первым двум волкам — там было сподручнее снимать шкуры со зверей.
— Жаль только, соли у нас мало, — проговорил Керим обеспокоенно, — как бы шкуры не протухли. И мука нужна.
— У меня есть немного муки, — сказал Мамат, — я взял с собой на всякий случай.
— Молодец, Мамат! Вот что значит умная голова досталась человеку и управляет телом, а у меня и голова дурная, и тело...
— Не кори себя, Керим! И голова у тебя умная, и тело ловкое. И рука твёрдая, и глаз острый, и ноги быстрые.
— Но муки-то я не взял.
— И снежный барс может споткнуться.
Мамат, успокоив коней, насыпал им в торбы корма, проверил, нет ли где в торбах худобы, иначе дорогое зерно утечёт, достал из чехла острый чарикарский пчак — нож, украшенный яркими золотыми метками — звездой и полумесяцем, стал помогать Кериму.
— Главное — довезти шкуры до своей кибитки, чтобы не завоняли, — пробормотал Керим, ловко орудуя ножом.
— Не должны завонять. Мы ещё пару часов простоим в этом ущелье, они успеют обветриться.
Вскоре край самой высокой горы, запечатавшей дальний выход из ущелья, озарило розовое сияние, словно бы из тёмной небесной глуби пролился свет, вершина горы загорелась призывно и тут же погасла — это начало играть невидимое утреннее солнце, через несколько минут на макушке горы снова вспыхнуло розовое сияние.
Запахло свежестью — с горных ледников прибежал ветер, сдул рябь с бурчливой холодной речушки. Разглядев невдалеке несколько кустов арчи, Корнилов взял топор и пошёл к ним. Утренний холод в горах может просадить до костей кого угодно, надо было согреться.
Капитан наотмашь рубанул топором по узловатому, в болевых наплывах и наростах корню арчи, корень оказался таким прочным, что топор отлетел от него, будто от резиновой колоды, едва не вывернув капитану руку, на тугом, с ободранной кожицей наплыве остался лишь мелкий порез.
— Ну и ну! — удивился Корнилов. — Арча не уступает по твёрдости самшиту. Надо же!
А самшит — это железное дерево, есть породы благородного светлого самшита, похожего на тающий воск, которые тонут, будто металл, в воде.
Остриём топора Корнилов провёл по порезу, примеряясь, потом коротко, не делая замаха, рубанул по корню. Нет замаха — нет отдачи.
Отдачи действительно не было, руку не пробило болью, как в прошлый раз, порез же на наплыве не увеличился совсем, словно и не было никакого удара. Корнилов закусил зубами нижнюю губу — не любил, когда что-то не получалось, привык всегда добиваться своего, если же цель ускользала, он настигал её. И неважно, что это была за цель, малая или большая — это совершенно не играло роли.
Он снова ударил топором по железному арчовому корню. Потом ударил ещё раз. Через пять минут он притащил к костровищу целый куст — арча оказалась тяжёлой, она действительно была будто сработана из железа, — отодрал от куста несколько кривых лап и достал из кармана спички.
Спички были английские — сделаны не так топорно, как петербургские, похожие на гребень для расчёсывания конских хвостов. Петербургские спички можно держать только в хурджуне либо в полевой сумке, а английские легко помещаются в кармане халата. Капитан невольно поморщился — хотелось бы, чтобы было наоборот. Корнилов даже в мелочах оставался патриотом земли, на которой жил.
А вот горят наши спички лучше, чем английские, и ломаются английские часто — только гнилое хряпанье раздаётся: хряп — и нету спички. И огня тоже нету, подумал он, израсходовав с десяток спичек, прежде чем под горстью мелких лап, сложенных вместе, занялось бледное синеватое пламя.
Главное — чтобы рахитичный костерок этот запалился, пустил струйку белого пахучего дыма, затрещал смолисто, защёлкал, далее же огонь разгорится сам по себе. Арча — дерево жаркое, горит как спирт.
Вскоре в воздух поползли неровные, нетрезво покачивающиеся струйки дыма — костёр занялся. Корнилов покосился в сторону двух проводников, обдирающих волков, — текинцы работали проворно, ловко, молча, шкура одного из зверей уже валялась на камнях. Капитан вновь двинулся к кустам: надо было срубить вторую арчу — одной костёр не удержать.
И опять та же история. Здешняя арча не поддавалась топору — топор отлетал от узловатых корней, во все стороны сыпались искры, на топорином жале оставались выщербины, металл пьяно звенел, а дерево не поддавалось. Корнилов выпрямился, вытер лоб. А может, надо пожалеть арчу, не уничтожать её, а? Ведь деревце это цепляется из последних сил за камни, растёт на лютом холоде, всему сопротивляется, врагов у арчи много: из земли её пробует выдрать ветер, тужится, воет, сипит, — от ветра нет спасения, как и от мороза, мороз жуёт дерево, расщепляет ствол и ветки на волокна, обдирает шкуру и лапы; на арчу с топором набрасывается человек, рубит, чтобы поддержать огонь в костре... Корнилов вздохнул и, держа топор в опущенной руке, отступил от куста — пусть живёт...
Он заметил нелоумённый взгляд Керима — тот не ожидал, что у русского капитана так быстро внутри кончится порох и родится жалость, — Корнилов поспешил отвернуться от текинца. Подошёл к речке, присел на корточки, сунул пальцы в ледяную пузырчатую воду, — речка, словно отзываясь на эти незамысловатые движения, казалось, замедлила свой бег, и говор её сделался тише, — капитан подхватил в ладонь воды, плеснул себе в лицо. Потом плеснул ещё.
Вода обожгла кожу, вызвала в висках невольный звон, Корнилов упрямо мотнул головой и зачерпнул воду пригоршней. Умылся с наслаждением, не обращая внимания на то, что от воды ломило пальцы, холод стягивал кожу на лице в горсть, в затылке то возникала, то пропадала стылая боль.