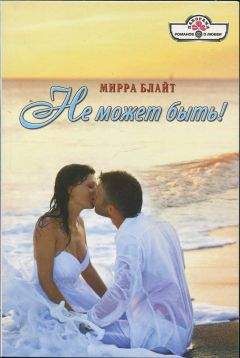Луи Арагон - Страстная неделя
— Не в том дело, нам уж столько приходилось выбирать между правой и левой; сомнительно, чтобы мы всякий раз попадали в Пти-Мортье или Дулье…
В Сен-Мало вам пристать без помехи…
Конечно, пешие могут днем перепрыгивать с камня на камень по придорожной тропке. Но конным, да еще ночью…
Фавье ехал рядом с Мармоном. И заговорил вдруг совершенно изменившимся голосом, так что в первое мгновение маршал рванул было лошадь в сторону, но речь была вполне в духе его адъютанта.
— Не повернуть ли нам назад? — так начал Фавье. — Засесть в Бетюне и выдержать осаду, сколько бы она ни продолжалась? По всему видно, что Бонапарт уклоняется от сражения между французами, потому что оно может послужить предлогом к иноземному вмешательству.
— Об этом не может быть и речи, — возразил Мармон. — Мы переправляемся в Нидерланды, король уже там.
Наступило молчание, которое нарушили крики и ругань. Опрокинулась карета. Чья? Лошади остановились, ничего, нас это не касается, раз мы во главе, надо ехать дальше. Во главе чего? Неизвестно, следует ли кто-нибудь за нами. Достаточно было передним свернуть не в ту сторону, как они потянули за собой остальных…
— Господин маршал, — сказал Фавье, и в его голосе слышалась тревога. — В Париже вы полностью одобрили мой план обороны Лувра. Король не дал согласия, пусть пеняет на себя. Теперь он обретается в Ипре или еще где-то. За это он отвечает перед историей. Но неужто вам непонятно, что для Наполеона важнее всего создать легенду, будто его призвала страна и все встретили с распростертыми объятиями… А вот если мы окажем сопротивление, если прольется кровь…
Мармон промолчал, он поднял воротник шинели — северный ветер пощипывал уши.
— Днем была настоящая теплынь, а тут смотрите, как похолодало к ночи.
Фавье из себя выходил. Зачем было иметь в своем распоряжении королевскую гвардию, зачем было собирать и вооружать молодежь, если не хочешь драться. Либо мы правы, либо нет. Если правы, надо драться, чтобы доказать свою правоту.
— Возможно, что Бетюн не самое удачное место, — снова заговорил он. — Я имею в виду близость к Лиллю и Аррасу, хотя укреплен он по-вобановски, но, пожалуй, все-таки умнее было бы отойти на Эден — он дальше от границы, а значит, представляет меньший соблазн для союзников…
— Не понимаю, — прервал его Мармон, — что вас больше смущает? Близость союзнических армий или солдат Эксельманса?
— Поймите, господин маршал, — принялся доказывать Фавье, — в случае несвоевременного вмешательства извне Бонапарт приобрел бы лишних сторонников, а нас бы стали считать приспешниками иностранцев.
Мармон приглушенно хихикнул. Не видно было, какое у него выражение лица. Но Эден явно устраивал его не больше, чем Бетюн. Ему лично не стоило задерживаться в стране, где хозяином был император. Еще в Канне Буонапарте вполне определенно высказывался в том смысле, что Мармона ждет стенка и двенадцать пуль. Оттого что маршал перейдет границу и присоединится к королю, вовсе не следует, что и остальные… Господи, как мы кружим! Ну вот, дождались, влезли в топь и увязаем все глубже. Куда мы угодили? В торфяное болото? Назад! Хлюп, хлюп, хлюп… Что с этой лошадью? Легла и лежит…
Надо остановиться, подождать остальных.
Кто это — остальные? Может быть, мы и есть остальные. Не иначе как сейчас очутимся в Армантьере, или в Эстере, или еще где-нибудь похуже. А вдруг в самом деле солдаты Эксельманса или Вандамма выступили нам навстречу из Азбрука и, зная, что мы в Эстере…
— Стой! Кто идет? Ах, это вы, Лористон.
— Господин маршал, графу Артуа пришлось выйти из берлины, потому что она свернула на какой-то проселок, откуда ее нельзя вызволить.
— Вот те на! А как же его бочонки?
Он роздал их гвардейцам, положась на волю божью! Вы вот шутите. А там ведь вся наша военная казна. Я решительно возражал против того, чтобы драгоценности короны были отправлены в Англию… Теперь что же, — прикажете побираться в Бельгии? Кто это там позади, верхом? Простите, господин герцог, я вас не узнал, как говорится, дал маху. Вот уж незадача так незадача. Господин герцог де Ришелье едет верхом, а где же его экипаж? Да это не мой экипаж, это кабриолет Леона де Рошешуар. Не знаю, куда он запропастился, нет, не кабриолет, а наш юный Леон… Я был уверен, что он впереди, с вами.
— Куда девался Леон, я понятия не имею. Что до кабриолета…
Путники останавливались. Трогались дальше. Останавливались опять. Переговаривались между собой.
— Прошел слух, будто наши пушки, ну да, наши пушки отправлены в Армантьер, а оттуда они ни с места.
— Как? В Армантьер? Мы ведь еще не добрались до Армантьера…
Да нет же, их отправили другим путем. Подите растолкуйте им, что другим путем из Бетюна не доберешься иначе, как сделав крюк через Лилль. И никому в голову не приходило, что пушек попросту не взяли с собой. Да и на что они сдались, эти самые пушки? А тогда зачем тащить с собой зарядные ящики?
Кабриолет Леона де Рошешуар оказался на одной из проселочных дорог, позади гренадеров. А что делается впереди — вряд ли кто может сказать. Ясно одно, все увязают в грязи. Вот тут еще какая-то карета и фургон. Фургоном по непонятной причине правил штатский из местных жителей. Никто не мог догадаться, что такое он лопочет. И для местного жителя он удивительно плохо знал местность. В фургоне помещались три сундука и трое человек. В кабриолете с пожитками герцога де Ришелье и рошешуаровским дорожным мешком для платья лакею Леона было очень тесно, при каждом толчке он, растопырив руки, старался удержать баулы, и кучер, глядя на него, покатывался со смеху. Кучер был новый, но поневоле познакомишься за пять дней и пять ночей пути, нет, кажется, выходит пять ночей и четыре дня? Говор у него тоже был чудной, только по-иному, звали его Бертен, был он парижанин, и понять его жаргон, вернее некоторые словечки, мог разве что уроженец Бельвиля, а слуга господина де Рошешуар как сын лакея из Версаля употреблял изысканные обороты и не терпел жаргонных выражений. На руке, ближе к плечу, у Бертена была татуировка, которую он не любил показывать. Но когда он умывался в Абвиле, лакей обнаружил, что у синей змеи, обвившейся вокруг его левой руки, голова доходила до правого соска, и кучер, или как он сам называл себя — «кучерявый», намекнул, что эта диковинка не очень-то пристойного происхождения, и с тех пор не переставал издеваться над лакеем, а тот конфузился. Кто знает, может, тут и в самом деле есть такой душок. В эту ночь «кучерявый» был злой-презлой и затеял со своим попутчиком разговор об императоре. Это слово в устах кучера и при таких обстоятельствах!
— Ты что, всю жизнь думаешь расшибаться в лепешку? Тебе, видно, нравится быть холуем? Ты вот что обмозгуй…
Этот глагол не был в обиходе лакея, а последующее, что ему предложили обмозговать, еще меньше подходило для его мозгов и ушей. Либо ты честный человек, либо нет. Истинное несчастье ночью, посреди болота, имея на своем попечении драгоценный позолоченный несессер его сиятельства, очутиться в обществе подобного субъекта! Потому-то ему и показался истинным посланцем небес гвардеец, который добрался до них, перепрыгивая с камня на камень и прижав к груди большой сверток: он объяснил, что конь у него попал в трясину, и попросился к ним третьим… Кучер огрызнулся. Места нет, но лакей жеманным тоном возразил, что можно потесниться.
— Ладно, полезай! — крикнул Бертен. — Вы, сударь, добрый малый, только смотрите! У этого типа подозрительная рожа…
Под дождем время тянулось бесконечно. Из Эстера выехали часов около двух, а теперь вряд ли больше четырех. Внезапно откуда ни возьмись — отряд кавалерии. Стой! Кто идет? Это оказались мушкетеры, значит, либо они, либо мы сбились с дороги, и как это выходит, что все время встречаешься со своими? А в какую сторону подаваться теперь?
* * *Эту ночь в Бетюне, в караулах у городских ворот, на укреплениях или на постое, королевские гвардейцы спали мало и тревожно. После того как сторожевые отряды разошлись по своим постам, на квартирах у местных жителей осталось человек четыреста, не больше. У Теодора произошел длинный разговор с его хозяевами, в котором принял участие некий капитан де Беллоне, командир инженерного полка в Бетюне, окончивший Политехнический институт и разделявший образ мыслей майора. В девятнадцать лет он за участие в Ваграмской битве получил крест Почетного легиона. И когда Теодор повторил то, о чем думал весь день, а именно, что ради этой королевской авантюры и умирать-то не стоит, капитан удивленно посмотрел на него и вдруг произнес с каким-то даже вызовом: «Раз не стоит умирать, значит, сударь, стоит жить». Эти слова произвели сильное впечатление на нашего кавалериста, однако не убедили его. Хозяйская дочь больше молчала и явно симпатизировала Теодору. Маленький Жан выпросил разрешение посидеть подольше и жадно слушал разговоры взрослых, но около полуночи он стал клевать носом, и мать отправила его спать.