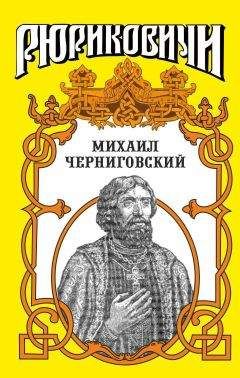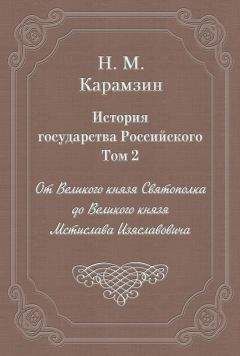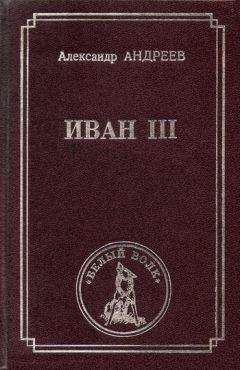Ульрих Бехер - Охота на сурков
— Avanti popolo /alla riscossa,/bandiera rossa, /bandiera rossa./ /Avanti popolo/ alla riscossa,/ bandiera rossa/ trionferà…[421]
Комичное явление: сын фельдмаршала Габсбургской монархии марширует ночью по дороге через Сан-Джан и поет боевую песню итальянских «красных». Возможно, «папаша Радецкий» перевернется в гробу на своей «Горе героев» в Нижней Австрии. А может, и не перевернется. В сущности говоря, кощунство, когда живые в шутливом тоне ссылаются на гимнастические упражнения мертвых.
— Bandiera rossa la trionferà, /Evviva il socialismo e la li-bertà…[422]
Это — одна из самых красивых, самых пламенпых революционных несен со времен «Марсельезы»!
Топ-топ-топ-топ-сено-солома-сено-солома.
— Avanti popolo /alla riscossa, / bandiera rossa/ trionferà.
(Дружище, не пой так громко.)
Во время четырехдневной гражданской войны моей самой заветной мечтой было убить не главу хеймвера князя Эрнста Штаремберга. Этого красивого плейбоя нельзя было всерьез ненавидеть. Истинную ненависть я испытывал к прусскому майору Вальдемару Пабсту, который перебрался из веймарской Германии в Австрию. В эту пору, то есть в тридцать четвертом году, он отличился на посту начальника штаба хеймвера (тот факт, что он не примкнул к нацистам, имел свою вполне нацистскую причину: «недостаточная чистота крови»). Как жаль, что он не попался мне в открытом бою, этот Вальдемар, этот двойной убийца, который в январе 1919 года разместил свой штаб, штаб гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии, в шикарной берлинской гостинице «Эдем» и отдал оттуда приказ убить двух человек, возможно поглощая устрицы и запивая их шампанским. Первой его жертвой стал адвокат, доктор Карл Либкнехт, который уже в 1914 году осмелился голосовать в рейхстаге против военных кредитов. По приказу Пабста Либкнехта ночью впихнули в машину, а потом высадили в заснеженном Тиргартене, сказали: «Вы свободны, господин доктор» и тут же УБИЛИ «ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ». А вот что «мы сделаем с этой малышкой Люксембург»? Ей мы быстренько заткнем глотку «Накоплением капитала» (которое она сочинила). Поручим Розу матросу Рунге, слабоумному и жестокому. Ну а как все происходило потом, историки нового времени не дознались точно. Нет у них единого мнения на этот счет. Неизвестно, застрелил ли Рунге Люксембург уже в «Эдеме» (в то время, как этажом выше у майора Вальдемара Пабста выстреливали пробки от шампанского), а потом впихнул труп в машину (в которой сидел по крайней мере один офицер кайзеровского военно-морского флота)? Или же Рунге «прикончил» Люксембург уже в автомобиле? Как бы то ни было, а полчаса спустя тело Розы погрузилось в ледяную воду Ландверского канала. Ах, как я хотел бы очутиться с глазу на глаз с начальником штаба хеймвера Вальдемаром Пабстом! Но я ни разу не увидел его за те несколько дней боев, вместо этого я взвалил себе на спину раненого Шерхака Франца и помчался с ним в Грац к доктору Максиму Гропшейду. Шерхака СПАСЛИ ДЛЯ ВИСЕЛИЦЫ! Да, по законам «чрезвычайного положения» к виселице были приговорены: Шерхак, Станек — секретарь профсоюза металлистов в Штирии, Коломан Валлиш, сапожник Мюнихрайтер, капитан венской пожарной команды инженер Вайзль, изобретатель пенного огнетушителя, и многие другие. (Мог ли аппарат юстиции в государстве Дольфуса — Шушнига вздернуть на виселицу и Альберта ***, еще сравнительно молодого тридцатипятилетнего человека, инвалида войны с тяжелыми увечьями, фельдмаршальского сынка? Нет, для этого австрофашистский режим чересчур крепко врос корнями в старую Австрию.) Ну а вскоре венский нелегальный 89-й эсэсовский полк укокошил Дольфуса в его резиденции на Баллхаусплац, и канцлером стал дворянин Шушниг. Еще до того как он распустил хеймвер, да, еще до этого, Шушниг выпроводил из Австрии организатора двух убийств — убийства Либкнехта и Люксембург. Тем временем Требла познакомился с двумя тюрьмами в Граце, с четырьмя в Вене и с целым рядом лагерей; в 1934 году он сидел в лагере Мессендорф в Граце, поздней осенью неделю пробыл на свободе, после этого был «передан» жандармами в лагерь Вальтендорф. Сие учреждение разместили в школе. Полицейская кухарка Лайбброд оказалась «сочувствующей», меня она называла не иначе как «господин фон Товарищ». В лагере сидели «красные» и «коричневые», и кухарка по мере возможности подсовывала «красным» двойные порции. Два из трех лагерных дежурных надзирателей также не скрывали своих симпатий, поэтому комната для свиданий заключенных была всегда полна, и там не унывали. Когда кто-нибудь из наших хотел «побыть» со своей женой, подругой или возлюбленной, в лагерной канцелярии из гигантского шкафа для бумаг вынимали все содержимое, кроме папок на самом дне, толщиной примерно в матрас. После этого рабочий день на полчаса так сказать клали ad acta, и канцелярские слышали когда тихую, когда громкую возню в шкафу.
— Господин фон Товарищ, — пролепетала как-то кухарка Лайбброд. — Вы ведь молодожен?
— Если вы считаете человека, женатого уже четыре года, молодоженом, тогда, конечно…
— Во всяком случае, вид у вас молодожена.
— Да ну?
— Правда, что вы женаты на дочери Джаксы?
— Всего-навсего на племяннице, — из осторожности солгал я.
— Джаккк-са! — Кухарка широко раскинула свои широкие лапищи. — Ох, если бы взять у него автограф.
— Это нетрудно.
— Да-а-а? Право же, не годится, чтобы вас и вашу прелестную молодую женушку… я видела ее в комнате для свидатш… заперли в этот отвратительный канцелярский шкаф.
— Разумеется, госпожа Лайбброд. Уже не говоря о том, что я страдаю аллергией и, наверно, задохнулся бы в шкафу через десять минут.
— Мария и Йозеф, господин фон Товарищ. Знаете, что я сделаю? Но это должно остаться строго между нами: я приготовлю вам свою комнату, застелю постель свежим бельем… вы только должны сказать точно, когда вы и ваша супруга хотели бы предаться в моей комнате… — как это говорили древние римляне?.. — предаться сиесте?..
Топ-топ-топ-топ.
Сено! — Солома! — Сено! — Солома! Да здравствует бывшая кухарка Лайбброд в полицейском лагере в Вальтендорфе!
(Не кричи так громко, господин фон Товарищ.)
Кажется, кажется, на дороге, что ведет через Сан-Джан, я в полном одиночестве. Ничто и никто не попадался мне навстречу. Ни машина, ни мотоцикл, ни велосипед, ни пешеход. Полное отсутствие движения могло бы озадачить меня, но я воспринимал это как нечто естественное, тем более что после полуночи движение грузовиков, совершавших дальние рейсы через Бернинский перевал, сводилось к минимуму. Водители грузовиков! Грузовики Мена Клавадечера! Какими тайными тропами проезжали сейчас машины контрабандистов? Одинокий прохожий — в буквальном смысле этого слова — ничего не видел, кроме одной-единственной светящейся точки на горной станции канатной дороги Муоттас-Мураль. Какой слабый огонек! Почему, собственно, там не повесили «мигалку»? Старый военный летчик, я невольно подумал, что скоро в горах наставят маяков, так же как на море. А куда скрылась луна? На небе была лишь красная тень совершенно захиревшей, идущей на убыль луны, а ведь еще вчера луна освещала мне путь — опять же в буквальном смысле этого слова. Вчера ночью, когда «меня на пути домой охраняли мертвецы».
Когда меня на пути домой охраняли мертвецы.
Сегодня ночью (эфедрин эфедрином…) у меня уже не оказалось этого эскорта.
Я сделал ставку, но выиграть было невозможно. Кто это сказал? Чей это был девиз? Неужели крестьянского вождя, рыцаря Франца фон Зиккингена? Одного из немногих в немецкой истории, кто сделал попытку совершить истинную революцию.
Я сделал ставку, но выиграть было невозможно.
Почти не было шансов.
И очень много шансов.
(Все относительно.)
Я сделал ставку на себя.
Не было ни ущербной луны, ни единой звездочки, все вокруг окутала душная тьма, непривычная для здешних мест. Я развязал свой шарф. «Полоса хорошей погоды кончилась, гроза у южного подножия Альп».
Я, правда, не носил ботинок на микропорке и топал довольно основательно, и все же я услышал и увидел грозу.
Гром и молнии.
С расстояния более чем 150 километров и из глубины более чем 1500 метров раскаты грома звучали, как приглушенный гул преисподней, а молнии походили на сполохи огня, чьи отсветы озаряли кромешную тьму высокогорной долины. Все это «разыгрывалось» по правую руку от меня, а слева на отвесной высокой горе, подобно некоему постоянному противовесу буре, одиноко горел огонек в Муоттас-Мурале — единственная точка, которая указывала путь, единственная точка, по которой я ориентировался. Правда, мне ничего не стоило вытащить фонарик Полы, но я считал, что в эту пору зажигать фонарик бессмысленно, да и не очень умно.
Солома, сено, солома, сено, в июле тридцать пятого христианское австрийское государство освободило меня, но я отплатил ему злом за добро. Дурной поступок! À propos — о деревне Дурнобахграбен. Через две недели, которые были посвящены только Ксане и мне, я с головой окунулся в нелегальную работу, вошел в руководящий политический орган революционных социалистов Штирии. Помню неудачную явку в каменоломне у Гёстинга, оба моих товарища-конспиратора провалились. Зато позже весьма удачно прошли две вечерние встречи в картонажной мастерской Пренинга в Дурнобахграбене… В начале тридцать шестого в Вене я вошел в руководство «независимого шуцбунда» и исполнял обязанности связного, устанавливал контакты с профсоюзами. В Бригиттенау в отдельном кабинете кафе снова прозвучал сдержанный призыв к оружию. «Опытный журналист», я основал три нелегальные заводские газеты. Пытаясь скрыть свою «особую примету», я, противник шляп, стал носить мраморного цвета вельветовую шляпу. Прежде чем австрийское полицейское государство успело конфисковать мой заграничный паспорт и мой университетский диплом, я предусмотрительно снял копии с этих документов и заверил их у нотариуса. Благодаря этому мне удалось в июне побывать в Адриатике на острове Хвар, где жила семья Джаксы. Но вскоре после возвращения в Вену меня забрали — Ксана еще была на Хваре, и я ночевал не дома, на Шёнлатернгассе, а на очередной конспиративной квартире, в комнатушке на верхотуре «проходного» дома на Грабене, дома с несколькими выходами.