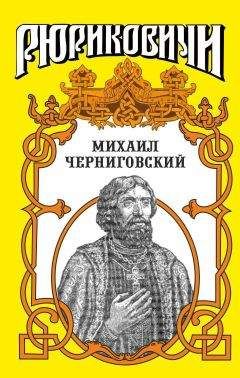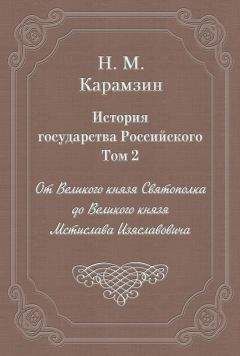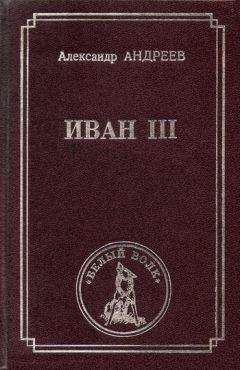Ульрих Бехер - Охота на сурков
Или твое одиночество только кажущееся?
По левую руку от меня осталась церковь; тень, уходящая ввысь. Справа я увидел дом. Тот дом. Правда, уличный фонарь был далеко и дом почти слился с темнотой, из окон тоже не пробивалось ни единого лучика. Напротив дома темнела заправочная станция, слегка поблескивали четыре бензоколонки — каждая из них могла бы стать хорошим укрытием для снайпера. Тот дом был типичный энгадинский дом, входная дверь расположена довольно высоко. От нее в обе стороны вели ступеньки с коваными чугунными перилами. Справа и слева от двери были витрины с опущенными железными шторами — там помещалась продовольственная лавка. На доме висела вывеска, при свете ближайшего уличного фонаря, вокруг которого вилась всякая нечисть, я различил по-крестьянски солидно выполненную сграффито надпись:
Р. ЦБРАДЖЕН-ТРАЧИН
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ГАСТРОНОМИЯ
На гофрированном железе одной шторы я заметил приклеенную бумажку с траурной каймой. Что это? Извещение о смерти, какое вывешивают католики, особенно в сельской местности? Но при таком кладбищенском освещении я не мог разобрать слов, ведь извещение не было напечатано, его нацарапали от руки. Возможно, с моей стороны это было преступное легкомыслие (так ведь принято говорить), но, не осмотрев бензоколонки напротив дома, я зажег на секунду японский фонарик Полы. На бумажке строгими, почти готическими буквами было выведено:
Chiuso! Closed! Fermé![419]
Временно закрыто по причине смерть
Опять, уже опять странное совпадение. Как исправить эту орфографическую ошибку? По причине смерти или по причине смертей?
«Смерть» — это слово роковым образом настораживало меня и в то же время притягивало. Машинально взведя курок в кармане пиджака, я обернулся, внимательно оглядел бензоколонки… все четыре тускло отсвечивали и чем-то напоминали рыцарскую фалангу… широко шагая, я отошел за угол дома, в тьму кромешную.
Остановился перед пристроенным к дому складом, под тяжелыми сводами темнели окна, очевидно, были заколочены досками. И внезапно услышал невнятные звуки, но они шли не из склада, а из дома, сверху или из самой глубины, да, из дома доносились приглушенные звуки, они звучали гулко и одновременно глухо, словно вылетали из огромной пещеры.
Нескончаемо долгая, ужасная нота, будто специально предназначенная для того, чтобы «леденить душу».
Звуки то нарастали, то стихали. Что это — протяжный вой или визг?.. Может быть, это воет брошенная собака? Собака, наверно, была большая. Неужели?.. Неужели это плакал человек? Потом мне показалось, что кто-то молится и что молящийся прерывает молитву, потому что его выворачивает наизнанку, а желудок у него пустой. Молитва выплескивалась толчками, молитва на незнакомом языке… Скорее всего, на ретороманском. Одно слово все время повторялось: О Segnér, il Segnér. Оно могло означать: О Спаситель, Спаситель. Не напоминало ли это немецкий? Диалект кантона Ури? Сбивало с толку одно обстоятельство: слезливо-визгливый голос все время ломался, то он был на две октавы выше, то ниже. Кому он принадлежал: мужчине или женщине? Я напряженно прислушивался. Разве это молитва? Нет, скорее причитание, кончавшееся воем и проклятьями. (Кого проклинал голос? Спасителя?) Неужели это мать выплакивала свое горе, мать, потерявшая за одну ночь двух сыновей? Вопрос, который я себе задал, ужаснул меня самого: неужели в этом доме стоят два гроба — гроб с телом Ленца и гроб с телом Бальца? Гробы с братьями, у которых еще в мирное время «пулями разнесло голову» (впрочем, куда больше вероятия, что мертвые лежат в подвале самеданской больницы). А может, я слышу не один, а два голоса? Женский голос и голос подростка? Слышу спор матери и сына, бодрствующих у гроба?
Я опять напряженно прислушался. Нет, из дома доносился только один голос. Может быть, юношеский голос, который лишь недавно перестал ломаться? Голос Андри… Но разве Андри дома?
Со стороны Самедана донесся цокот копыт, он все нарастал, одинокий цокот, старомодный звук, в недалеком будущем (по утверждению Джаксы) он исчезнет навсегда. Перед домом Цбрадженов остановился четырехместный извозчичий экипаж, запряженный вороной лошадью. Наводящие ужас причитания сразу смолкли. Кучер неторопливо слез с козел, помог выйти из коляски женщине. В красновато-неверном свете извозчичьего фонаря я успел разглядеть: женщина была статная и куталась во что-то черное. Поддерживаемая кучером, женщина поднялась по ступенькам к дверям; за это время они с кучером обменялись двумя-тремя словами, сказанными вполголоса.
Поставив «вальтер» на предохранитель, я снова пустился в путь. Пролетка повернула и поехала обратно, лошадь шла мелкой трусцой, обогнала меня. Теперь эта вороная лошадь показалась мне намного темней, чем все те вороные кони, которых я знал; только сейчас кучер увидел меня, на секунду повернул в мою сторону бледно-стертое лицо, а потом бросил через плечо внимательный взгляд, мне вдруг почудилось, что он похож на любопытного кретина… Вероятней всего, однако, он почуял во мне возможного седока.
Подозвать его?
Но кучер отвернулся и подъехал к развилке, у которой висело большое вогнутое зеркало, одна дорога отходила к Самедану (левая), другая — к Понтрезине (правая). При свете висячего, окруженного всякой нечистью фонаря пролетка с лошадью, медленно трусившей по дороге, напоминала чем-то музейный экспонат — лондонский кэб. А потом и цоканье и шорох шин начали постепенно замирать и я услышал близкий неумолчный плеск воды в фонтанчике, который навел меня на мысль «спустить свою воду» (так, кажется, говорили в старицу).
Пройдя немного по булыжной мостовой, я очутился на тускло освещенной маленькой площади с фонтанчиком — из большого углубления перед ним когда-то поили скот. Передо мной была каменная тумба и типично энгадинские дома, наверняка окрашенные либо в белый, либо в розовый цвет, с окнами-бойницами, закрытыми ставнями; через них в этот час не пробивался свет; и все это вместе представляло собой неподвластную бегу времени картину: площадь в энгадинском курортном городишке. Я сунул в рот три таблетки эфедрина фирмы «Мерк» — слишком большую дозу для профилактики — и запил лекарство, подставив рот под струю ледяной воды фонтанчика. И тут мне вдруг показалось, что я услышал какой-то новый звук. Храп спящего человека? Нет. Равномерный, очень частый топот, который «опоясывал» погруженную в сон площадь и время от времени заглушал плеск воды; я оторвался от струи и перешел на другой конец длинной впадины, в которой в случае необходимости можно было спрятаться. Теперь я старался определить, что это был за звук.
По силе он не превышал двадцати фононов, это мог быть цокот копыт где-нибудь на расстоянии километра, к тому же постепенно замиравший. Неужели это был шум пролетки, возвращавшейся обратно в Самедан, той самой пролетки? Неужели это топала та самая вороная лошадь, которая привезла сюда энгадинскую Ниобею Цбраджен-Трачин, а теперь бежала домой? Неужели из пролетки и впрямь вышла та женщина, мать, достойная глубокого сострадания, подвергшаяся невыносимым испытаниям? (До чего же быстро стираются подобного рода эпитеты. И насколько быстрей они начнут стираться в будущем, в эпоху повсеместного героизма матерей…) А может, из пролетки вышла какая-нибудь родственница Цбрадженов. В первом случае в доме, скорей всего, был Андри, который, поняв бессмысленность своих угроз, остался под отчим кровом, чтобы выплакать горе (ведь он еще почти ребенок). Но если причитания, которые я слышал, исходили из уст матери, тогда… Андри мог стоять где-нибудь на дороге, держа в руках карабин, убивший обоих братьев. Надо было спросить кучера, кого он доставил из Самедана. Слишком поздно. На колокольне Целерины пробило три раза, звук показался мне очень близким и чуть замедленным. Ноль часов сорок пять минут. На дороге появилась небольшая колонна автомашин с выключенным дальним светом; она тихо шла по направлению к Санкт-Морицу. И еще я увидел большого черного кота, ему не к чему было «выключать» глаза, и они горели малахитово-зеленым огнем. А потом я поравнялся с освещенным указателем дорог — коробкой из просвечивающего голубоватого стекла с двумя световыми надписями: САМЕДАН (крутой поворот налево) и ПОНТРЕЗИНА (правый поворот); развилка была в черте города, и из-за выступа левый поворот имел форму латинской буквы N, так сворачивала дорога, которая шла через Самедан в Нижний Энгадин, теперь она стала дорогой Треблы, так как вела через Сан-Джан. В верхней узкой части вогнутого зеркала водители машин, следовавших с юга и с севера, видели, кто движется им навстречу; я часто проезжал мимо этого вогнутого зеркала, обрамленного красными отражателями, проезжал в «крейслере» тен Бройки. А сейчас я направился прямо к развилке по вымершей дороге так, словно я сам был колымагой, которая тащится шагом; вот я уже увидел в зеркале свой поясной портрет, увидел, как его исказило вогнутое стекло, будто дело происходило в Пратере, в «комнате смеха» — аттракционе, который находится почти рядом с «туннелем ужасов». Но «туннель ужасов» остался позади, сегодняшняя ночь казалась мне «туннелем ужасов в туннеле ужасов» — не то чтобы это был «туннель ужасов», возведенный в степень, а скорее возведенный в химеру, в химеру химеры, ибо до сих пор на всем протяжении моего пути вообще ничего не приключилось (нельзя ведь считать приключением леденящие кровь вопли, доносившиеся из дома Цбрадженов, и пролетку, остановившуюся около него). И все же, стоя здесь, наверху, и вдыхая необычайно душный воздух, я ощущал, что эта ночь была до чертиков реальна. Я подошел к зеркалу ближе, чем надо, и одним взглядом охватил свое лицо, освещенное сбоку дорожным указателем, и отрезок дороги позади меня, где не было ни души. Лицо мое, наполовину мертвенно-бледное, наполовину темное, показалось мне не только причудливо искривленным, как в «комнате смеха», но чужим и одновременно странным, этому способствовал берет, который я редко носил, и непривычный светло-голубой шарф. Да, мое лицо походило на портрет кисти знаменитого норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка.