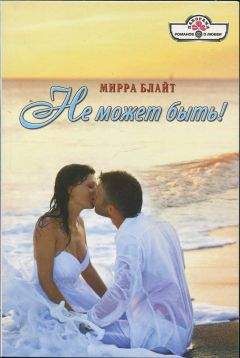Луи Арагон - Страстная неделя
Все эти молодые люди толпятся здесь, собираются кучками, созванные с разных концов города барабанным боем. Некоторым пришедшим с опозданием повторяют все заново, и они в ярости швыряют наземь каски, кивера, шапки и плачут, как малые дети. Сторожевые посты послали сюда представителей, чтобы те по возвращении осведомили pix.
И вдруг Теодор, который послушался было своего хозяина и даже завернул на Приречную улицу, где мясники убирали с полок товар и где он намеревался взглянуть, что представляет собой лавка пресловутого старьевщика, будто бы особенно бойко торгующего теперь… вдруг Теодор чувствует, что у него не хватает духу уехать. Он словно заразился всеобщим отчаянием, порывами ярости: те чувства, которые, надо полагать, таились под спудом, сейчас проявляют себя открыто и необузданно. Казалось, он знает этих легкомысленных франтов, этих балованных сынков, которым папенька купил офицерский чин, этих юнцов, способных только орать и пить, и что же? Именно они полны отчаяния и страха перед бесчестьем, и надо полагать, не сегодня родилась в них преданность и вера, пускай во что-то невразумительное, но все-таки вера и преданность…
— Нет, нет! — выкрикивает какой-то гренадер, и всем понятно, к чему относится его негодующий возглас.
Королевские жандармы, все как один, выхватили сабли и размахивают ими при свете факелов. И даже несчастные мальчишки-волонтеры, — вместо башмаков у них на ногах холщовые обмотки, а взгляните, какое выражение лица хотя бы у этого долговязого… А швейцарцы, они-то почему бьют себя в грудь и всем пожимают руки?..
Где Монкор? Где Удето? Где юный Виньи? Посреди этой давки, в которой отдельные группы сливаются, распадаются, передвигаются в причудливом свете, а привязанные лошади ни с того ни с сего начинают бить копытом, толпа вдруг раздается, из нее выволакивают раненого гвардейца конвоя, ни от кого не добьешься толку, ни одного знакомого лица. Главное, солдаты не построены по роду оружия, все бегут с разных сторон, перед ратушей стоят гренадеры, на балкон выходит незнакомый генерал, а вокруг него офицеры, набранные откуда попало, образчики всех мундиров королевской гвардии… «Как вы назвали того, что говорил сейчас?» — «Генерал-лейтенант де Монморен». — «Откуда он взялся? Из ваших, что ли?» — «Да нет же…» Теодор потрясен: он слышит слова, удивительно похожие на те, которые уже слышал тогда ночью, в Пуа, их произносили совсем другие уста, но слова были те же. Здесь тоже говорят о родине, о мире. Из домов выходят женщины, обнимают содрогающихся от рыданий мальчуганов и плачут вместе с ними. Они думали, что на их стороне сила, количество, на их стороне право и отчизна. И вдруг оказывается, что их предали, теперь ясно, их предали той призрачной армии, которая давно уже, как им чудится, окружает, преследует, подстерегает их, она где-то здесь, хотя пока что не показывается, из всей этой неуловимой армии они видели сегодня только улан, нарушивших присягу своему королю, но еще носящих на груди ордена, полученные из рук его высочества, герцога Беррийского… Всех их заманили в Бетюн, и они простодушно вошли в его стены, считая, что это очередной этап, оказалось же, что это ловушка, быть может подготовленная заранее, капкан, который захлопнулся за ними. Теперь они пленники, пленники! К чему им это оружие? Пушки, которые они тащили за собой от самого Парижа и которые не выстрелили ни разу, не выпустили ни единого ядра, да, впрочем, в кого? Неприятеля нет, есть грандиозный заговор, в который их втянули бесчестные командиры, а они-то, несчастные дурачки, верили во все — в знамя, в бурбонские лилии, в династию…
— Что такое? — кричит гвардеец-кавалерист волонтеру, который только что говорил. — Не веришь больше?
Ответа никто не слышал, все это напоминало танец призраков, они менялись местами, как будто раскланивались, сходились, расходились… Все больше и больше разбивались на группы, расталкивали друг друга, чтобы услышать, что говорит их товарищ там, в центре кружка, наваливались один на другого, кричали: «Мы будем драться! Не сдадимся!»
Да и правда, как поверить тому, что им сейчас сказали?.. «Королю пришлось выехать из Лилля, так как его величество не мог положиться на верность войск, составляющих гарнизон лилльской крепости, и ныне с великим прискорбием принужден покинуть Францию…» Когда эти слова прозвучали с балкона, они долетели отнюдь не до всех, многие решили, что не поняли, ослышались. Никому не известный генерал вынужден был все повторить: «Королю пришлось выехать из Лилля…» Каждый пересказывал другому все с начала и до конца… «…и искать прибежища в Бельгии». Когда это произошло? Одни утверждали, что два дня назад, другие, что накануне. Пока что от них это скрывали. Всю вину за умолчание они возлагали на единственного известного им военачальника, на Лагранжа. Принцы уехали, взяв с собой только свою свиту, меж тем как сопровождать их хотели все, решительно все. «Государь выражает благодарность всем тем, кто остался ему верен, и в ожидании лучших времен предлагает всем вернуться к домашнему очагу». Что для большинства означают эти слова? Для тех, кто всю жизнь служил бросавшему их ныне на произвол судьбы королю, кто изведал изгнание, унизительность подчинения иноземным офицерам, кто мыкался по всей Европе, там, где им, отверженным, Узурпатор оставлял еще немного места в стороне от движения своих армий. Вернуться к домашнему очагу! Где он — их домашний очаг? Не меньшей насмешкой звучит это и для юношей, которые взялись за оружие, надеясь, как их отцы в войсках Конде или Наполеона, положить начало славной эпопее, прожить увлекательную жизнь: «Государь поручает военачальникам расформировать те части, кои не могут вступить неразоруженными в чужую страну…» Невообразимо! Немыслимо! Не мог король сказать подобные слова! Где это написано его рукой? Кто нам докажет, что нас не обманывают? Это придумал Лагранж! Вы сами свертываете знамена! Вы разобщаете преданные сердца!
Теодор сроду не слыхал таких речей. Значит, неправда, что головы у них пусты и ничто не заставляет биться их сердца… нет, все эти мушкетеры, солдаты конвоя, гренадеры верят, твердо верят в своего короля, хотя король в эту самую минуту бросает их на произвол судьбы. Поистине душераздирающая картина, — так человек безмятежно возвращается домой и видит, что гнездо его опустело, а жены и след простыл… Сердце разрывается у него в груди, и он твердит: «Чего ей недоставало, почему она ушла от меня…»
* * *Когда к офицерам приступали с расспросами, они по-своему толковали королевское послание, считая, что тут явно видна рука графа Артуа. Ведь сказал же господин де Монморен, что ничего не будет предпринято, пока не возвратится кавалерия. Кавалерия, ну, во всяком случае, та ее часть, которая сопровождает принцев. Да ведь достаточно кавалерии осталось и здесь! Так к чему же медлить? Раз есть приказ государя… В том-то и дело, что это вовсе не приказ: король освобождает нас от присяги, и теперь мы вольны либо расходиться по домам, либо следовать за королем за границу. Кто это сказал? Может быть, это говорится в угоду общественному мнению, чтобы отмежеваться от лагранжей и лористонов, чьи имена стали синонимами перебежчиков к Бонапарту? Теперь группы формировались более отчетливо, потому что почти в каждой объявлялся свой оратор. Его перебивали, спрашивали, как его зовут, особенно молодежь, простые солдаты, которым дела нет до чинов… «А сам ты кто такой?» Сам он был виконт Рикэ де Карамон или маркиз Дюбокаж, граф де Сен-Мори или барон Потр де Ламот… Или еще господин де Мондор, господин Лаббе де Шангран. Им кричали: «Вы служили Буонапарте?» Они отрицали; тех, кто был в армии принцев, награждали рукоплесканиями. Таким путем Теодор узнал фамилию волонтера, на которого обратил внимание еще в Бовэ, очень уж это была приметная фигура, вездесущий, длинный, как жердь, болтун, а руки точно крылья ветряной мельницы! Тот самый, что ехал от Пуа до Абвиля в фургоне приказчика, который тут же на козлах пустил себе пулю в лоб.
Сейчас, например, у подножия башни собралось не меньше двухсот человек, и Теодор не преминул вмешаться в их толпу. Здесь была не только зеленая молодежь, но и люди постарше и даже штатские, привлеченные пылкостью речей, кучера с кнутом в руках, слезшие с козел, ребятишки, не желавшие идти спать. Но большей частью это были сверстники оратора, юнца лет восемнадцати. Сразу видно, что он готовится в адвокаты, язык у него неплохо подвешен! Правду сказать, он чувствовал, что слушатели на его стороне, и подкреплял свое красноречие широкими жестами. Впрочем, будем справедливы, говорил он хорошо. В словах оратора слышался шум ветра, развевающего знамена, когда он, держа в руках ружье, говорил:
— Конечно, принцы не могли официально приказать нам, чтобы мы разделили их изгнание, посмотрите же, как великодушно они освободили нас от присяги! А знаете, чего они втайне ждут от нас? Разве сердце француза способно на капитуляцию? От нас самих зависит пойти на жертву, избрать горькую долю изгнанников, примем же, примем достойно выпавший нам удел, безрадостный и высокий, суровый и трудный.