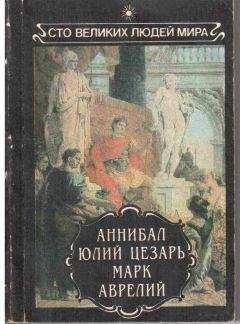А. Сахаров (редактор) - Екатерина Великая (Том 1)
– Как? Чем? – удивилась дама.
– Колдуньей, говорю… Да. Ворожеей! Оно всё то же… – вздохнула Параскева. – Гадала я дворянам, господам, на картах, на гуще кофейной и на мыльной воде… И бросила… И вот уж сколько лет этого греха на душу не брала. Ну а теперь из-за тебя погрешу, божбу свою преступлю и тебе погадаю.
Дама улыбнулась ласково.
– Я пошукаю твою судьбу… И мы будем с тобою знать, что нам делать. Как тебе твоё дело и все дела повернуть в твою пользу. Понимаешь?
– Нет, бабушка. Я не понимаю… Ты погадаешь. Хорошо. Но что же из того?
– Увидим мы всё, глупая ты моя! – воскликнула Параскева. – Увидим всё-то и всех-то наскрозь. Ну, ты и узнаешь, как тебе извернуться, чтобы всех своих ворогов объегорить.
Дама рассмеялась.
– А ты, моя сударка, как будто и не веришь мне. Думаешь, я совсем дура и зря болтаю. Не хочешь – не надо. Я для тебя же… – обидчиво проговорила старуха.
– Как можно, бабушка. Я считаю тебя очень умной. Ты мне умнейшие советы уже дала. Обещаться.
– Как знаешь. Я не навязываюсь, – бурчала Параскева, обидясь.
– Нет. Что ты. Напротив. Я очень рада погадать. Но это невозможно. Это трудно. Разве вот здесь, в лесу.
– Зачем. Здесь нельзя. Гуща должна быть горячая… Приходи ко мне в избу. Вот тут, недалече. Я тебе сейчас покажу.
– Вот это хорошо, – воскликнула дама. – Завтра же я к тебе приду. Только не одна, а с приятельницей.
– Ладно. И карты захвати. У меня нету. Они тоже нужны.
XXVI
Параскева вернулась домой и, задумчивая, не говоря ни слова внукам, села у окошечка… Размышляя о чём-то глубоко и угрюмо, она изредка вздыхала, а то и охала.
Внуки притихли и отчасти встревожились. Такого никогда почти не бывало… Было, помнилось им, когда старухе не хотели возобновить условий по отдаче внаём земли под огороды. Было то же, когда бабуся их узнала вдруг, что внучка собралась замуж за крепостного Матюшку.
Алёнка долго приглядывалась к прабабушке и наконец не выдержала. Она подсела и, обняв старуху, выговорила тихо:
– Что ты, бабуся? Аль беда какая?
– Что? – отозвалась Параскева, будто очнувшись.
– Что ты так, оробемши будто? Аль беда стряслась?
– Тьфу! Типун тебе на язык. Какая беда? Где беда?
– Так что же ты эдакая? – вступился и Тит. – Ажно напужала нас. Говори, что такое? Откуда пришла?
– Видела я опять мою барыньку, – вздохнула Параскева. – Ну вот и взяла меня тоска. Жаль мне горемычную. Помогла бы ей, да где же мне, бабе-мужичке, барыне помочь.
– Отчего жаль-то? – спросила Алёнка.
– Тяжело ей. Добрая она. Сердечная. А тяжело ей, страсть. Говорила со мной, у неё даже слёзки по щекам потекли. Заедают её, бедную, лихие люди. Много их. А она-то одна, сирота, вдова. Не у кого ей и защиты искать. Некому заступиться за неё. А уж одолели-то… Одолели… Ахти! Со всех сторон… Чисто псы. Один, вишь ты, хочет – вынь да положь, выходи она за него замуж. А она не желает. А отказать нельзя, говорит, бед не оберёшься. Озлится он и набедокурит.
– Дело простое – арбуз поднести! – рассудил Тит. – Ну, не хочу, и проваливай. Просто?
– Просто? – воскликнула, качая головой, Алёнка. – Ты слышал, бабуся сказывает, она сирота да вдовая… В эдаком разе кто захочет, тот на тебе и женится. Ты парень, а не девка, и бабьих дел не смыслишь…
– Верно. Верно. Золотые твои речи, Алёнушка! – оживилась Параскева. – Смышлёная ты у меня головушка. Останься ты вот без меня и без Тита. На тебе прохожий татарин женится.
– Да. Оно пожалуй… Если сирота круглая, – согласился Тит, – то несподручно от всех отбиваться. Одолеют, именно как собаки в переулке… Вот надысь шёл я по Арбату ночью, и вдруг это…
– Полно. Помолчи, Титка. Дай бабусе сказывать, – вступилась Алёнка. – Ну, что же барынька-то эта? Ещё-то что у неё?
– Ещё-то? Да много. Многое множество всяких забот и горя, – начала Параскева, подперев щёку рукой. – Один вот привязался, выходи да выходи за него замуж. Где-де тебе, вдове молодой, управиться в своих вотчинах. А она-то, моя горемычная…
– Не хочет! – перебила Алёнка. – Это мы слышали. Ещё-то что?
– А ещё-то… Один из ейных, должно, дворовых. Старый, да умный, да злюка, смекаю я сама-то, служил её родителям и гордости набрался… А теперь хочет, чтобы она его в главные управители взяла…
– Ну что же? Коли старый слуга, – сказал Тит, – да умный… И хорошее дело, если…
– Погоди. Прыток ты… Дай досказать, – перебила Параскева. – Юн, этот самый, дворецкий, что ли, хочет быть в управителях ейных вотчин токмо на такой образец, чтобы она, моя золотая, ничего бы не смела делать без его ведома и без его разрешения.
– Скажи на милость! Ах, идол этакий, – воскликнул Тит. – А за это его на скотный двор! К коровам, мол, хочешь?
– То-то вот… Говорит он: «Заведём тройку управителей, я буду четвёртый и набольший. И буду я всё вершить. А ты, барынька, ни во что не вступайся. Кушай, гуляй да почивай на перине». А она, знамо дело, эдак-то не желает. Я, говорит, не старуха, хочу сама госпожой быть.
И Параскева вздохнула и задумалась.
– Ну, ну… Ещё-то что же? – спросили правнуки.
– Да много ещё… Все лезут, всякие себе должности просят по двору. А кто на волю просится зря. Кто денег просит в награжденье за старую службу… А она давала, и всё даёт, и много раздала… А всё не сыты! Всё лезут и ещё просят, больше… А сосед один, и важный такой, боярин и князь из немцев, грозится… Отдай ему целое угодье. А не хочешь, тягаться в суде учну, и оттягаю, и разорю.
– Ах, Господи! – шепнула Алёнка, не поняв слова «тягаться» и вообразив себе, что это значит душу из тела вытягивать.
– И то не всё, родные мои, – продолжала Параскева. – Всего и не запомню… Ну, просто, говорю, бедную касатку на части рвут. И грозятся! Этот самый дворецкий, что ли, написал эдакую бумагу и с ножом к горлу лезет, подпиши. А она-то, сердечная, боится.
– Избави Бог! – воскликнул Тит. – Это мне сказывал наш Кузьмич, князев дядька. Никакой, говорит, бумаги никогда не надо подписывать, кто грамотен. А кто неграмотен, и креста не ставь. Как подписал, так тебя и засудят.
– Ну, вот… Она и не хочет подписывать. А он, старый, говорит; «Тогда-де я дело в суде заведу, чтобы твой сынок был помешиком-душевладельцем, а ты бы отставлена была от делов». А сынок-то ещё махонький совсем.
– Как же так, бабуся? Такого закону нету.
– Да так вот… Вотчины, стало быть, не её самоё, а мужнины. Ну, сынок-то и наследник. А она, вдова, токмо покуда он махонький, распоряжаться может. Старый-то чёрт знает всякие законы и ходок. Стрекулист. Где ей, бедной, супротив его идти. Вот, стало быть, либо назначай его главным правителем, либо он в суд махнёт. Малолетку чтобы объявили помещиком, а её самоё побоку.
– Да, дела! – ахнул Тит.
– А ещё-то есть одна молоденькая барынька, что была в её товарках-приятельницах, теперь, обозлясь, поносит её везде и со всеми её подругами заодно… А ещё-то… Ещё… Да всего и не перескажешь. Уж так-то мне её жаль. Так-то жаль, что я на одно грешное дело из-за неё иду…
– Что ты, бабуся? Зачем?! – испугался Тит.
– Не бойсь… Дело такое… что только я свой грех знать буду. И грех для людей невелик, да мне-то самой тяжело.
XXVII
Ввечеру, когда Тит ушёл, Параскева сказала внучке:
– Вот что, Алёнушка! Завтра барынька к нам придёт. И не одна, а с одной своей старой приятельницей. Надо нам светёлку нашу почистить, прибраться как следует, полы вымыть и всё эдакое… Она всё-таки, сдаётся мне, барыня важная, хоть и якшается попросту со мной, мужичкой.
Весь день и вечер старуха была задумчива. Старуху мучила мысль, что она сколько годов, и Бог весть, ворожить бросила и никому не гадала. А теперь вот не вытерпела из жалости… И обещала барыньке за грешное дело взяться.
– Авось Бог простит, – утешала себя старуха. – Один разочек. Да и то не за деньги. А из жалости.
Когда внучка улеглась спать, старуха дождалась, чтобы она заснула, и принялась за таинственную работу, которая постороннему показалась бы бессмысленной.
Через час у Параскевы была в руках небольшая посудина, полная какой-то тёмной гущи. Она накрыла её полотенцем и спрятала к себе под кровать, только для того, чтобы внучка не увидела её.
На этой гуще предполагалось узнать всю судьбу «барыньки».
Наутро Параскева, едва проснулась, начала волноваться, сновала без смысла в комнате, выходила и бродила около домика. Её смущало и то, что придут к ней две барыни, и то, что надо опять себя осквернять ворожбой. Почём знать, думалось ей, может быть, она уже замолила свой грех молодости, а теперь, в сто лет, вдруг опять колдуй и душу губи.
Алёнка начала ещё с зари хлопотать и, вымыв пол, вытерев начисто стёкла двух окон, убирала и поправляла без конца всё, что попадало ей под руку… Раз десять переставляла она с места на место всякую всячину из их рухляди.
– Да уж полно тебе… – заметила Параскева. – И так ладно. Мы не дворяне какие. Чем богаты, тем и рады. Кроме огурчиков да брюквы, и угостить-то нечем. Да им и не нужно. А ты вот не забудь, что говорила.