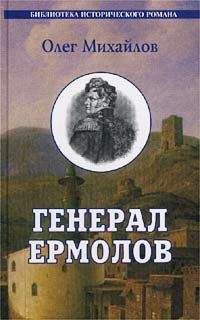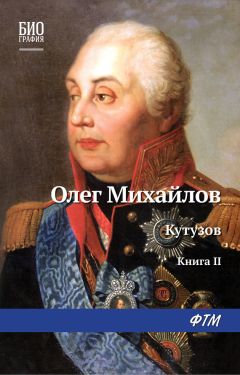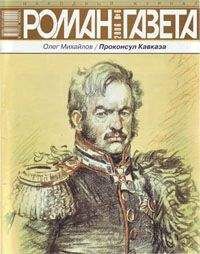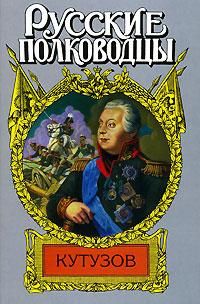Эдуард Зорин - Большое Гнездо
У зятя Рюрика Ростиславича, волынского князя Романа, с утра сидел в гриднице [65] боярин Твердислав, только что прибывший из Киева. Покашливая, выкладывал недобрые вести. Говорил глухим голосом, гнусавил в бороду:
— Я тебе еще когда сказывал, княже: Рюрику не верь. А ты гнал меня за порог, на думу не звал, поносил всякими словами.
Роман, подобравшись на стольце, морщился, нетерпеливо теребил длинный ус.
— Ты дело говори, боярин, — наконец оборвал он Твердислава. — Про обиды твои выслушаю после. Зачин твой был про плохие вести…
— С зачином аль без зачина, плохие они и есть, — обиделся боярин, любивший все говорить и делать обстоятельно. — Прибыл я, как велено было, в Киев…
— Ну? — снова оборвал его Роман.
Боярин вздохнул.
— Уступил ты Рюрику, — сказал он, — думал, отдаст он отобранные у тебя города Всеволоду, а Рюрик хитрил, вступил в сговор с владимирским князем…
— Что-то ходишь ты вокруг, яко лис, — усмехнулся Роман. — Никак в толк не возьму, к чему клонишь, боярин?
— Скоро поймешь, — мрачно пообещал Твердислав.
— Дале, дале, — подбодрил его Роман.
— А что дале? Отдал Рюрик твои города Всеволоду…
— То и мне ведомо, — хмыкнул Роман.
— Отдать-то отдал, и Всеволод те города принял, а после посадил в Триполь, Корсунь, Богуслав и Канев своих посадников, — одним духом выпалил боярин.
— Почто? — удивился Роман. — Ведь для сынов просил.
— То присказка, княже, а сказка еще впереди…
— Ты не про все города помянул, Твердислав, — вдруг обеспокоенно спохватился Роман.
— О том и речь, — сказал боярин. — Лучший город твой, Торческ, отдал Всеволод через свои руки Рюрикову сыну, а своему зятю Ростиславу…
— Врешь! — взревел Роман и, бледнея, вскочил со стольца.
— Вот те крест святой, — побожился Твердислав, в растерянности ища глазами икону. — Ты посуди-ко, княже: ну не хитрец ли Рюрик?! Эко что выдумал. Торческа, лучшего своего города, ты бы Ростиславу никак не уступил, сам взять его у тебя Рюрик остерегся. Зато через владимирского князя получил, что хотел.
Боярин помолчал, пристально глянул на притихшего Романа.
— Нынче, поди, все над тобой потешаются.
— Потешаются али нет, — медленно приходя в себя и понизив голос до гневного шепота, проговорил Роман, — то не твое дело, боярин. А весть ты мне принес и впрямь недобрую.
Исполненный достоинства, Твердислав встал с лавки и медленно приблизился к стольцу. Выставив перед собой посох, сказал:
— Не мне указывать тебе, княже. Но Рюрику ты своевольничать не давай…
— Сегодня же снаряжу гонца в Киев, — быстро согласился Роман.
— И скажи тестю, княже, — продолжал боярин окрепшим голосом: — «Не гоже это — заводить смуту в своем племени. Женат я на дочери твоей, а ты не блюдешь родственного союза. Что подумают о твоем своеволии и коварстве другие князья?..»
— Все так и скажу, боярин, — почти не слушая его, рассерженно кивал Роман.
— И еще скажи: «Верни мне мои города, коли хитростью их у меня отнял. Уступил я их по доброй воле, по доброй же воле беру назад. А иного мне ничего не нужно…»
Ушел боярин, гремя посохом, а зловещая тень его осталась в гриднице. Весь день до вечера буйствовал Роман. И над юной женой, Рюриковой дочерью, издевался:
— Вскарабкался отец твой на Гору, так нынче глядит не иначе как свысока. Глаза-то завидущие, руки-то загребущие. Дай срок — и Волынь под себя загребет.
— Ты батюшку не ругай, — со слезами на глазах защищала отца Рюриковна. — Доброй он.
— То-то от добра его и распирает, как квашню. Тесно стало тестюшке в Киеве.
— Не его в том вина…
— А чья же? — зло прищурил глаза Роман. — Уж не моя ли? Я клятвы не нарушал.
— Отца наперед выслушай…
— Слушал уж. Ирод клянется, Иуда лобзает, да им веры неймут!..
А вечером у Тверди слава собрались передние волынские мужи — бояре Чудинович, Судислав и Жидята.
Пир был не велик, велика была беседа. Прислуживал боярам за столом немой Оболт, обрусевший ковуй [66], привезенный еще отцом Твердислава из Чернигова. При нем бояре говорили смело.
Первым начал хозяин дома. Рассказал гостям о поездке в Киев, о встрече с Рюриком и сыном его Ростиславом.
— Крепок, зело крепок Всеволодов корень, — сказал он между прочим. — Сам Рюрик слаб духом и немочен, и Святославна ему плохая подпора. А вот Ростиславова жена, дочь Всеволода Верхуслава, вся в отца и в деда — дерзка, учена, на язык остра.
— То ж и Михалкова дочь Пребрана, — вставил Чудинович. — Владимира-то, Святославова сынка, как был он в Новограде князем, водила на коротком поводке. Даром что баба.
Похихикали бояре, выпили по чаре, закусили стерлядкой, и опять слово брал Твердислав.
— Нынче имел я беседу с Романом. — сказал он. — Не по нраву пришлось князю мое известие. Шибко осерчал он. И так я думаю, бояре. То, что ссорит Всеволод меж собою князей, то не только ему на руку… Всем нам ведомо: у Романа десница [67] тяжела, нрав крутой, и, ежели будет ему не с кем землю делить, ежели установится промеж князей согласие, нам с вами, бояре, несдобровать: начнет он наводить на Волыни порядок, прижмет нам хвосты не хуже Всеволода.
— Вот и выходит, что нет нам от мира никакой выгоды, — вставил тощий Судислав и с опаской стрельнул юркими глазками по сторонам.
— Слово твое верное, — поддержал боярина Твердислав.
— Да как же это? — не понял Жидята. — Опять же холопов сымет Роман с земли…
— Пущай, — глядя на него тяжелым взором, сказал Твердислав. — Тебе ли о холопах печись?
— Жатва на носу…
— А бабы на что? Хлебушко соберем, — хихикнул Чудинович.
Жидята обиженно замолчал, взял с блюда огурец, впился в него источенными зубами, почмокал, отер тыльной стороной ладони бороду. Больше слова от него никто не слышал.
— Набрался я, бояре, страху, как услышал, что отдает свои города Роман, — сказал Твердислав. — Гляжу на князя и глазам своим не верю. Нешто, думаю, вселился в него ангел?
— Да ну? — удивился Чудинович.
— Я ведь его, почитай, с каких лет помню. А такого отродясь не бывало. Зато, как прознал я про Всеволодову задумку, тут сразу и понял: проймет князя. Рюрику коварства его не простит. А заодно припомнит и давнюю неприязнь свою к Юрьевичам. Это ведь его отца, Мстислава, побил Андрей Боголюбский, а Киев взял на щит — не так уж мал был тогда Роман, чтобы не помнить позора. Да и другое подымет память — хоть и далеко Волынь, а руки Всеволода и до Галича дотянулись…
— Про то нам ведомо, — сказал Судислав.
Будто не слыша его, Твердислав продолжал:
— Помогла богородица — разгневался князь. А как дальше все повернется, тут и гадать нечего. Пойдет Роман на Рюрика. Вот вам мое слово…
Внимательно слушавший его Чудинович вставил недоверчиво:
— За Рюрика Всеволод вступится. Не для того забирал он города… А на Всеволода у Романа рука не подымется — уймется быстро.
— Еще когда уймется, — сказал Твердислав. — Не для того Всеволод кашу заварил, чтобы ее всю разом и расхлебали. Еще помашут ложками-то, еще набьют себе синяки да шишки.
— Ох и умен ты, боярин, — с уважительной завистью сказал Судислав. — Быть бы тебе самому князем…
— О чем толкуешь? — нахмурившись, оборвал его Твердислав. — Воистину говорят: борода выросла, а ума не вынесла. Какой же я князь?
Но лесть приятно пощекотала его. И потом, когда уж перестали судить да рядить, когда навалились на меды и яства, нет-нет да и бросал он в сторону Судислава ласковые взгляды.
Жидята, смакуя сладкую брагу, облегченно вздыхал: не по нутру ему были умные разговоры. Голова от них наливалась тяжестью, смежались веки — оттого и в думе у князя порой раздавался в уголке его тихий храп. Нынче Жидяте сон был не в руку: пока беседовали бояре, привиделось ему, будто напоил его Оболт не медом, а горьким рассолом. Со страху разомкнул он глаза как раз на том месте, когда Судислав прочил хозяина дома в князья. «Свят-свят», — мысленно перекрестился Жидята и вместо блюда с жареными гусями запустил пятерню в полную братину. Ошибки его, слава богу, никто не заметил, а то бы подняли на смех…
Кончился недолгий пир. Выпито было немного, домой бояре возвращались верхами и еще долго говорили промеж собой. Но о том, что поведал им Твердислав, не сказано было больше ни слова.
3
И Одноок, и сын его Звездан, и все из челяди, чинившей расправу, думали, что Веселица, брошенный за Лыбедью, давно уж мертв и схоронен монахами — без имени и без креста, как неведомый никому бродяга.
Но не умер Веселица от страшных ран: очнулся под откосом в густом бурьяне, окунул голову в студеную воду, напился, постонал и пополз по тропке в березовый перелесок, что вздымался у самой реки. Долго полз; вечер опустился на землю, холодными каплями росы усыпало травы, тонким белым серпиком выплыл в еще не потемневшее небо месяц. Перевернулся Веселица на спину, посмотрел вверх, и так ему жаль стало себя и всей своей загубленной жизни, что слезы сами потекли из глаз, а грудь сотрясли рыдания.