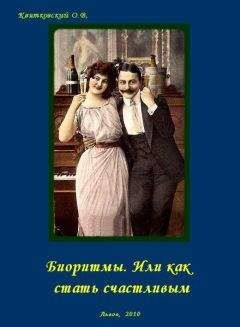Владислав Бахревский - Тишайший (сборник)
Гамаюн, как бы раздумавшись о некой загадке, сидел на рукавице Петра Семеновича, белый, благороднейшей стати, черные глаза его были горячее, чем у сородичей. Глаза сияли, но не по-звериному и не по-человечески, в них был нездешний ум, да и кто знает, с какого неба опустилась на землю эта птица. Одно о ней ведомо: из Сибири. А Сибирь – тайна и тайна. Необузданный, уму неподвластный простор дремучих лесов, океан туманов, вечной ночи, вечной зимы.
Петр Семенович пустил кречета.
– Этому не надо дичи спугивать. Этот сам найдет! – приговаривал сокольничий начальник, трогая лошадь.
Гамаюн широкими кругами плыл и вдаль и ввысь. Он замер вдруг, паря на небольшой еще высоте, словно позволял людишкам полюбоваться собой. И опять принялся закручивать незримую пружину.
– Летит, а за ним как бы след! – подивился Алексей Михайлович. – Верно, Петр Семенович?
– Такая уж птица! – согласился Хомяков.
Гамаюн сделал ставку в порядочном верху, но остался недоволен высотой и стал забирать еще и еще.
– Не вижу! – воскликнул государь. – Матюшкин, Федька! Ты видишь? Князь Юрий?
– Уж не улететь ли вздумал? – испугался Матюшкин.
– Петр Семеныч, ты-то как?
– Я-то? Вижу еще! Только и мне теперь не понять, то ли все поднимается, то ли ставку сделал.
– Падает! – закричал государь. – Падает!
Охотники шарили глазами по небу, выискивая птицу, которую выбрал Гамаюн.
– Коршак! Вон коршак! – кричал государь. – В великом верху! Петр Семеныч, миленький…
– Вижу, государь!
Гамаюн бил коршака жестоко, но не до смерти. Он наносил рану, взлетал, делал ставку и падал. Несчастный хищник стал добычей другого хищника. Трепеща в предсмертной агонии, коршак падал, с каждым мгновением набирая скорость. А Гамаюн шел опять вверх. Замер, и словно клинком полоснуло по небу. Кинулся в последний раз и вырвал жертву в двух саженях от земли.
– Слава! Слава! – Государь кинул с головы шапку, помчался к птице.
Матюшкин, князь Юрий и сокольники – за ним, а Петр Семенович – за царевой шапкой.
Старого челига тоже пускали. Челиг кречатый – самец кречета, самцы не столь прекрасны видом, и охотники они похуже. Но старый челиг не подвел. Добыл государю две совки. На одну совку ставок у челига было пятнадцать, расшиб в таком великом верху, что – где упала – не сыскали, а на вторую совку было двадцать. Вырвал ее старый челиг у самой земли.
Глава пятая
Братьев-пирожников свалила горячка. Тот, что был тугой на ухо, сгорал безропотно. Очнется, разлепит губы, глазами Саввушку ищет, а тот уже воды несет. С младшим братом беда. Мечется, бредит, а то с постели соскочит и пускает по избе что только под руку попадет.
Саввушке страшно, а куда деваться? Мыслимо ли оставить одних не помнящих себя горемык. Соседи, торгаши мелкие, отшатнулись. Ни один проведать болящих смелости не набрался.
Да и как их осудить, соседей. Языки урезают врагам самого государя, предерзостным врагам. А ведь у каждого язык один, второй не вырастет.
Перемена царя – все равно что ледостав. Станет река, утихомирится – тогда и кажи нос из берложки-то! А пока крутит да вертит – сиди. На маленьком человеке невесть за что могут отыграться.
Голодать Саввушка не голодал. В амбаре у братьев и мука была, и репа, и пшено. Куры неслись. В курятнике и отсиживался, когда меньшой в беспамятстве избу громил.
Саввушка хоть и боялся буйного брата, а жалел не меньше. Тряпицы мокрые на головы обоим клал, за обоих перед образами молился. Отобьет за одного брата, тугоухого, сто поклонов, а потом и за буйного – сотню же.
Смилостивился Господь, отвел болезнь, а Саввушке новое испытание. Он в курятнике каждый день, а на дню-то раза по три, а то и по четыре и по пять сидя, привык к курам. Сколько слез пролил перед рябыми да хохлатыми. Они ему в ответ: «Ко-ко-ко! Куррр». На душе-то и полегчает.
И вот хоть в голос плачь, а утешителям – головы долой. Человеку после болезни еды нужно немного, но чтоб в еде крепость была, без куриного варева не обойтись.
Братья на Саввушку глядят, как он по дому хлопочет, радуются. Мимо идет – притянут, посадят возле себя на кровать, по голове гладят. Ручку его к сердцу своему прикладывают.
Тут еще вспомнилось Саввушке верное средство от лихорадки. Стал он паутину по углам собирать, толочь и поить братьев. Болезнь-то и совсем прошла: то ли от лечения, то ли время ей было, красноглазой, убираться.
Тугой на ухо вставать начал, по дому Саввушке помогать. А другой брат и посильнее, и болезнь одолел раньше, но ни к чему рук не прикладывал. Или в потолок, лежа, глядит, или сядет возле окошка, палец в слюне мочит и трет слюну. Сидел он так однажды… да как застонет, как заскрипит зубами, словно ворота на ржавых петлях распахнул.
Тут-то Саввушка и сообразил наконец: не знает он, как братьев зовут. И стыдно, и горько – не знает. Спросить не у кого. Стоит Саввушке на улицу выйти, улица и пустеет.
А тут новая беда.
Однажды младший брат сидел-сидел у окошка да и вскочил, глаза круглые, кинулся за печь, топор нашарил и на улицу бежать. Тугой на ухо во дворе за подол рубахи успел его ухватить. Затащил в избу, а буян мычит, рвется:
– Гы-ы-ы! Гу-у-у!
Задрожал весь, перекорежился, топор взамах на брата. Метнулся Саввушка, как бельчонок, – на топорище повис.
…Плакали братья. Саввушку целовали. А потом достали из сундуков обновы, вырядились и один свой кафтан обкорнали, подарили мальчику.
В церковь пошли. Вечерню отстояли.
На братьев поглядывают, но украдкой. Возле братьев – простор. Прихожане от них – как мыши от кошки, лишь бы рядом не оказаться. И шепоток: «Плещеев, человек боярина Морозова, языки резал».
Молились братья смиренно, на коленях.
А выходить из церкви стали, увидел младший брат с паперти дворянчика-щеголя. Гарцевал на коне мимо церкви молодицам напоказ.
– Гы-ы-ы!
Людей вокруг себя меньшой хватает, на дворянина пальцем тычет, как бы науськивает. Все шарахаются. Кинулся было следом за щеголем, но старший брат удержал-таки.
Дома лампаду зажгли. Повечеряли. Тихо, славно.
И тут пришло старшему на ум тесто для пирожков ставить.
Младший брат отвернулся. Лег в потолок глядеть. А наглядевшись, вскочил, схватил бадью с тестом и выкинул за дверь.
– Гы-ы-ш-ш! – зашипел, как гусак, тугой на ухо да и вдарил ладонью брата по плечу.
Младший так и сел. Да тотчас вскочил, за рогач и рогачом печь крушить.
Сцепились братья, рухнули на пол, катаются, давят друг друга, душат.
Закричал Саввушка, кинулся из дому. А ведь осень, грязь, темень.
Прислонился к забору и заскулил: ни зги! Куда бежать? Кто поможет?
Вдруг зачавкала грязюка.
– Эй, кто сопли распустил? – Человек взял Саввушку за шиворот и поднял, чтоб самому не нагибаться. – Стряслось, что ли, чего?
– Убивают они друг дружку. Богом тебя молю, спаси!
Человек поставил мальчишку на землю, подумал:
– Переночевать место есть?
– На всю дюжину места хватит!
– Пошли.
Лампадка раскачивалась. Стол и лавки завалились. Два медведя на четвереньках пыхтели, упираясь друг в друга башками.
– Да в темноте и смазать как следует невозможно! – захохотал человек. – А ну-ка, Божия душа, где ты? Запали огонь, чтоб мимо рожи кулаки не летали.
Саввушка метнулся к печурке, зажег лучину.
Братья отползли друг от друга.
Свет лучины выхватывал разбитые в кровь лица.
– Спьянели, что ли? – спросил человек, поднимая лавку и стол.
– Не пили, – сказал Саввушка. – Из церкви пришли и разодрались.
– Не поделили-то чего?
Саввушка разглядел: на человеке иноземный, в позументах, мундир, сапоги высокие, с раструбами, на руках перчатки, на боку шпага. Шляпу человек кинул на стол.
– Берегись! – крикнул вдруг Саввушка.
Невзлюбивший дворянчиков меньшой брат, не спуская глаз с незнакомца, тянулся к ножу. Нож, видно, упал со стола. Как только в драке не подхватили!
Офицер, сидя, ботфортом шмякнул по руке татя.
– Они что, разбойники? – не теряя веселости, спросил незнакомец.
Тут Саввушка упал на колени:
– Помилосердуй! Он не виноват! Им языки Плещеев отрезал.
Человек поежился, улыбка сошла с его лица.
– За что же так?
– Они в кабаке спорили. Один говорил, что царь даст крестьянам волю, выход, а другой говорил, что все останется как было.
– Откуда знаешь, что Плещеев языки резал?
– В церкви слышал.
Офицер встал, потупил глаза и вдруг быстро поклонился тихому брату и буйному тоже:
– Не виноват, а прощения у вас прошу.
Опять задумался. Махнул рукой:
– Э-э! Если думать про все такое, служить будет невмочь. Спать лягу. Я в городе первый день, вы уж приютите.
Тугой на ухо согласно кивнул.
– Вот и славно… Пожалуй, на печи лягу, а то, – кивнул на меньшого, – как бы среди ночи не соблазнился глотку мне перехватить…