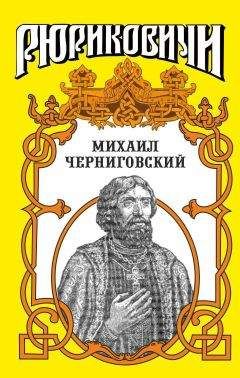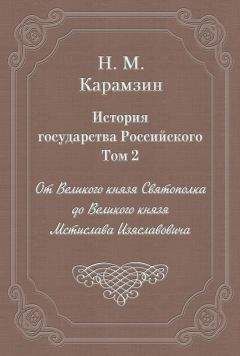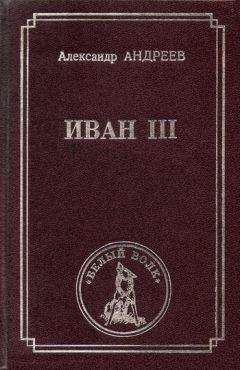Ульрих Бехер - Охота на сурков
Я громко сказал «алло», «алло», он как эхо откликнулся «алло».
Почему он просто-напросто не положит трубку?
— Этому субъекту, как бишь его, словом, так называемому Мостни, ты, видимо, внушил, что он должен изображать из себя немого полуидиота. Вчера вечером я в последний раз попался к тебе на удочку. Иначе его уже не было бы в живых.
— Не имею представления, о ком ты говоришь, Требла. Кого не было бы, кого не было бы в живых?
В трубке тихо-тихо потрескивало, и тут вдруг что-то сместилось — перебой, словно кто-то на секунду прервал гудение. (Наверно, «барышня с телефонной станции» — безличный женский голос — захотела удостовериться, продолжаю ли я разговаривать с Веной.)
— Скажи, ты помнишь Бертольда Якоба?
— Мне его никто не потрудился представить. — Голос Лаймгрубера опять зазвучал резко, почти визгливо (наконец-то), даже с некоторым налетом истерии, напоминавшей истерию Шикльгрубера.
— Я тебе его представлю. Выражаясь твоим языком, он — халдей. Пацифист-халдей. Месяцев девять назад небезызвестный Губитман утащил его из Базеля в ваш рейх… извиняюсь, в исконный рейх. К сожалению — к сожалению, для немцев, — из этого получился политический скандал. И им пришлось опять переправить халдея в Швейцарию. Таким образом, человек, которого никто из вас не хотел держать, но зато все очень хотели… умыкнуть из швейцарского пограничного города, города, оказался вам не по зубам. Был слишком на виду. Зато на равнинной или соответственно в гористой местности kidnapping[371] куда более эффективно. Надо думать, у тебя лопнуло терпение из-за того, что твои наемные убийцы так долго прохлаждались.
— Честно, — это и впрямь прозвучало честно, — я люблю пошутить, особенно с фронтовыми товарищами. Но твой тон, твой тон мне что-то не нравится.
У меня до ужаса запершило в горле, я с трудом удерживался от смеха.
— Ну, если ты такой деликатный, тогда назовем твоих молодчиков воинами небесной рати в загранкомандировке. Или проще — погубитманами у тебя на службе.
Лаймгрубер уже опять перестроился, засопел, захихикал.
— Не могу-гу-гу сердиться на тебя, Требла. Обхохочешься, того и гляди, отправишься на тот свет. Ты — второй баро-о-о-он Мюнхаузен. Отправи…
— Отправление-на-тот-свет, таков порядок! Но оказалось, что меня не так-то легко отправить на тот свет, что я вроде сурка, который не дает себя отправить на тот свет, не правда ли?
— Из Мюнхаузена ты уже успел превратиться в сурка. Ловко.
— Помнишь, как мы с тобой в последний раз болтали у камина, вернее, у железной печурки, старый товарищ… «От меня не убежишь. Ты еще вернешься ко мне — живым или мертвым».
— Разреши сказать тебе, Требла, вот что: существуют отбившиеся овцы, на которых пастух рукой махнул. Черные овцы или соответственно красные.
— Красношелковые.
— Мне не ясно, что ты имеешь в виду, без конца повторяя это бессмысленное слово: красношелковый.
— Давай представим себе шифровку, которую ты пошлешь молодчикам-погубитманам: выполняйте же, черт вас подери, так-вас-растак, то, что вы не удосужились сделать за весьма долгий срок — от вас одни убытки в валюте. Доставьте мне его живьем, живым в рейх. Якоба похитили из базельского «Косого угла». Не подойдет ли в данном случае для места встречи Косая башня в курортном городке Санкт-Мориц? Около двенадцати ночи… коло двана… На этот раз ему будет крышка, этому красноше… пропану… ко., про… дванаа… В тяжелом мотоцикле с прицепом хватит места для троих, — я начал хрипнуть, внутри у меня все клокотало, — ему, как барину, подавай специально, это бы его уст-ро-ило, но так не пойдет, нет, мы больше не стру-сим. Эта операция нам нипочем, схватим его… вместях… вместях… седни но… сегодня ночью, точно-точно, его можно захлороформировать, затолкать в коляску мотоцикла и умчаться в Мартинсбрук, а если он только шевельнется, мы хватим его по изуродованной башке, и у него «юююшка» брызнет, кровь, посередь ле… среди леса. А потом пое… через мо… поедем через мост, где у немецких пограничников случайно окажется поднятый шлагбаум, как при операции с Якобом, въе… и мы въедем с красношелковым в Великогерманский рейх, зиг хайль! А на следующее утро перед нижнеэнгадинским гаражом будет стоять порожний мотоцикл с коляской, и номер у него будет граубюнденский…
На сей раз его молчание обошлось мне по крайней мере в один франк. И я не воспринял это молчание как свой триумф. Внезапно меня обуяли сомнения: не слишком ли легковесна только что созданная мною схема, сумею ли я разоблачить таким путем его действительные — или пусть даже предполагаемые — планы и намерения, его козни?
Щелчок, и в трубке опять раздался безличный женский голос:
— Вы еще разговариваете с Веной?
— Да, — ответил я.
Новый щелчок, и вслед за ним я снова услышал голос Лаймгрубера, сперва он замирал, возможно — фединг — потом зазвучал отчетливей:
— Обожди минутку, обожди минутку, сдается мне, что всего несколько дней назад я видел твою фамилию в «Имперском вестнике закона», не так ли?.. Да, если не ошибаюсь…
Неужели оберштурмбанфюрер опять пытался разыграть «человека усталой крови» из драмы неарийца фон Гофмансталя в радиоварианте.
— На полосе, как бишь ее, на полосе, где были опубликованы фамилии лиц, лишавшихся гражданства, ты не значился, нет… Ну вот, вспомнил!.. Ты значился в списке лиц, подлежащих призыву. В приказе о призыве в армию. — Голос его прозвучал торжественно, но без особого нажима. — Тебя призывают в наш великогерманский вермахт. В конце концов… однажды я это уже отмечал… в конце концов, это соответствует твоим семейным традициям. Ведь правда? Разве это не доказывает, что в отношении тебя мы готовы забыть прошлое, не хотим быть злопамятными. — Он продолжал с легким упреком: — И тут ты звонишь и рассказываешь сочиненные тобой страшные сказки.
С каждой секундой дыхание мое учащалось, глаза жгло все сильней! Джа-кса?!
— А смерть… Джаксы… в… Дахау? Это, по-твоему, тоже страшная сказка?!
Наконец-то он перестанет притворяться, заговорит своим нормальным языком, протявкает: «Это был давний враг нации, заслужил свою участь» — и швырнет трубку.
ПОЧЕМУ ОН НЕ ШВЫРЯЕТ ТРУБКУ?
Вместо этого Лаймгрубер сказал:
— Ты прав, да, да, такая история… Я совершенно забыл… Забыл, что ты находился с ним в родстве… Вот незадача, просто ужас… Могу признаться, я сам был огорошен, когда это услышал. Да, тут уж, право, ничего не скажешь, кроме как: артисты — народ невезучий…
Я почувствовал, что мои бронхи резко сузились, во лбу запульсировала кровь, все тело покрылось холодным потом, бакелит телефонной трубки стал скользким.
— Ты-ы-ы-ы был огорошен?! Артисты — народ невезучий?!
Теперь он буквально перевоплотился в Густава Вальдау в роли «человека усталой крови» (радиовариант).
— Послушай… послушай… мои… послушай, я могу с чистой совестью утверждать, что понятия не имел об этом прискорбном случае…
— С чистой совестью.
— Вот именно, с чистой совестью. Этот случай проходил не по моему ведомству…
— С чистой совестью.
— Если бы я узнал, что его арестовали… если бы ко мне вовремя обратились, я бы, не медля ни секунды, начал хлопотать об его освобождении…
— С чистой совестью.
— Да, конечно… разумеется, видишь ли, я сам… я сам, когда-то, когда он выступал еще у Ренца… давненько это было, хохотал до слез.
— Слезы.
— Я бы сразу связался с политическим отделом, как его…
— Слезы…
— Я хочу сказать, сразу связался бы с Мюнхеном…
— С цветочками. Пчелками. Хохотал до слезочек.
7
Я сидел через улицу наискосок от главного почтамта, на открытой веранде «Штефании»; только что я запил пассугерской минеральной водой две с половиной таблетки эфедрина фирмы «Мерк». (Фармакологическая фирма, выпускающая эти горькие, по помогающие дышать пилюли, принадлежит, наверно, потомку Иоганна Генриха Мерка, близкого друга Гёте.)
Эфедрин действовал в Энгадине иначе, нежели внизу, в Домлешге. Все мои чувства обострились. Ничего не расплывалось. Казалось, тебе дали бинокль и ты наводил его до тех пор, пока изображение не стало слишком резким.
Дыхание пришло в норму, жжение в глазах немного отпустило. Я отказался от мысли проконсультироваться с курортным врачом доктором Тардюзером.
Итак. Двое Белобрысых снова в игре. Партия заканчивается.
Мостни, стало быть, не немой и не дебил. Он фанатик, примитивный субъект, если судить по его речи (речь его я слышал впервые). Но все же не дебил.
И вот я сижу на открытой веранде «Штефании»; сегодня самый длинный день в году, близится вечер, но еще совсем белый день, свет какой-то рассеянный. Я снова учусь дышать и мысленно восстанавливаю в памяти феномен двойной тени.