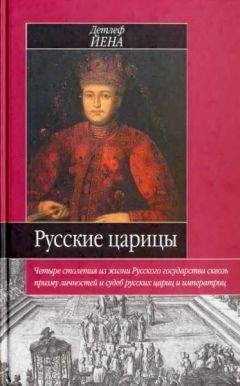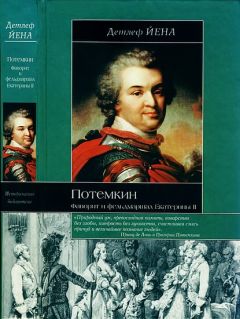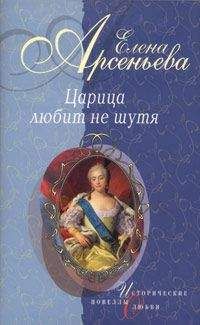Владимир КОРОТКЕВИЧ - Колосья под серпом твоим
Он почти не поднимался. Только в жару обливался водой. Никто не подходил к нему. Людей не было. Он не вспоминал и не думал ни о чем.
Ночью, приятно холодея под простыней, он слышал сквозь дрему крики сов. Смотрел в небо, видел, как падали с него звезды.
Приходил день. Трубы начинали нагреваться и радостно звенеть. И ему, что согревался вместе с ними, начало через несколько дней казаться, что это в нем самом звенит тепло, и ветер, и то, что возвращалось откуда-то, наполняя свежестью тело.
И снова кричали совы. И снова радостно летел синий зимородок к далекой реке. Купался в солнце. И все это было не дольше мгновения – чередование ночных ужасов и теплого дня, звезд и голубого неба. Всего, с чем он был наедине.
А когда поднимался, видел слева Днепр и парк, в котором не было строений, а справа – дикий парк и овраг, где тогда Гелена… Нет, он не думал о ней и вообще о людях. Людей совсем не было. Были там просто истоки Жерлицы, начало вод, начало криниц.
Так шли дни. Ночью падали звезды. Две из них они когда-то назвали своими именами. Какие? Не все ли равно?
Не надо было думать об этом, если каждый день он парил под облаками, пропитанными голубизной и горячим светом.
Так прошло две недели. Ява отступала. Она появлялась все реже. Потому что были небо, облака и солнце. И еще ветер, и однажды ночью гроза с молниями. Мир раскалывался вокруг, и Алесь лежал словно в шатре из ослепительных молний, похолодевший от непонятного восторга.
Потом начало временами приходить возбуждение. И еще, словно волшебство, мысли о жизни. Вначале они были неприятны, а потом стали даже согревать. Потому что вокруг были звезды и облака.
И, главное, небо.
Он уже ел. Он лежал и думал обо всем на свете.
В один из дней вдруг нахлынула нежная скорбь о ком-то. И с острым проникновением в правду он понял, что нет счастья в том, когда только тебя любят.
Любить – вот это было счастье.
И это относилось не только к женщинам. Это и любовь к людям. Счастье было – отдавать. Все отдавать женщине, солнцу и всем бесчисленным человеческим мирам, которые жили и двигались вокруг.
Реальность наплывала откуда-то все чаще. Красная от лучей заката дикая груша… Туман, что сбегает с земли, и повсюду белые… белые… кони… Отец прикладывает к губам рог. Синяя паутина в воздухе… Тромб на ослепительно белом песке арены… Глаза матери, что улыбаются ему… Кастусь и он на коне над обрывом… Колосья под серпом на камне… Кроер, поднимающий корбач… Красные вишни на подоконнике мансарды… Родник шевелит песок… Лица Когутов… Облик Стафана… Ветвь дуба, протянувшаяся среди звезд… Соловьиные трели… И опять Кастусь… И Майкина рука, показывающая на звезды…
Земля… Земля… Земля…
Однажды ночью все это нахлынуло на него с такой силой, что он задрожал от жалости по утраченному времени и от жажды деятельности.
Он не мог больше лежать вот так. Хватит! Прошло три недели. Три недели словно выброшены из жизни.
Была ночь. Он попытался подняться, но не смог – провалился в короткий и крепкий сон.
…Была все та же ночь. Но из темной земли – вокруг вознесенной в небо беседки и насколько мог охватить глаз – тянулись воздетые в молитве руки. Они тянулись все ближе и ближе. И выше, словно на каждую распрямленную ладонь должна была лечь своя, только ей предназначенная звезда.
Глухой гул доносился отовсюду, как будто невидимые люди роптали и задыхались под землей.
Руки тянулись выше и выше. Кричала земля.
…Он проснулся и увидел краешек восходящего солнца. Солнце переливалось и сияло над кронами деревьев.
Но голос безграничного горя еще летел от земли.
И тогда он сделал усилие и поднялся. Поднялся навстречу солнцу и, запахнувшись в простыню, вышел из беседки.
Пели птицы. Он шел, и шаги делались все увереннее.
…В аллее он увидел бегущего навстречу Кирдуна.
– Панич Алеська! Панич Алеська!
И бросился ему на грудь.
– Бог ты мой! А как же я ждал! Каждое утро. Когда это, думаю, та хвороба отступит?! Не пускали меня. Никого не пускали. Даже от Михалинки человека не пустили.
Алесь обнял этого первого человека из вновь добытого мира.
– Ну, брось, Халимоне. Видишь, все хорошо. Жив.
Жадно спросил:
– Что там нового?
Кирдун понял по этому вопросу, что с болезнью все покончено.
– Надо, надо было, чтоб встал. Прибегал хлопец от Михалины. Свадьба скоро. Подгоняет пан Ярош.
У Алеся жестко сузились глаза.
– Я сказал, что больны. За нею следят. Бежать хотела, – захлебывался Халява.
– Еще что? – сурово спросил Алесь.
– Так, ерунда, панич. За это время некоторые даже не послали спросить, что с вами… Старый пан посмеивается. Говорит: «Б-бай-кот», – вот как. Вся западная часть округи – Таркайлы, да Браниборские, да другие… Старый Ходанский кричал: «Подыхает старое гнездо! Чего ждете, младшие?! Скоро и Веже подыхать! Гоните его, пока то дело, из комитета и отовсюду. Красное из этих «красных» пустить надо!» Хорошо, что в собрании большинство младших восстало против них. Пана Кастуся Кроера Юлиан Раткевич за двери выкинул. Дуэля была… до первой крови.
– Убили кого? – спросил Алесь.
– Царапины у обоих.
– Ну, бойкот – это чепуха, – торопился Алесь. – Еще что?
– «Ку-га» сделала облаву на Черного Войну.
– Убили?
– Выскользнул… А потом пришло письмо с угрозой от «Ку-ги» Юлиану Раткевичу.
– За что?
– А дьявол его знает… – Кирдун вдруг остановился. – Паничику, секрет.
Что-то такое было в его голосе, что Алесь тоже остановился.
– Думаю, Кроер со злости прислал… со злости на Юлиана… Только молчите…
– Не шути, – сурово сказал Алесь. – Почему думаешь?
– А кому Юлиан когда шкодил?… И потом… Помните, Таркайло говорил, что люди «Ку-ги» остановили его лакея, Петра, и дали предупреждение?
– Ну?
– Петро ничего не знает, – шепотом сказал Кирдун. – Я как бы случайно заговорил с ним. Никто его не останавливал. Ничего он, Петр, не передавал.
Алесь остолбенел.
– Таркайлы?
– Они, пане Алесь, – просто сказал Кирдун.
Алесь пошел, почти побежал по газону. Белая простыня развевалась в воздухе.
– Насчет Кроера и думать перестань. Доказательств нет, хотя и похоже на него. А Таркайлы – похоже, ты прав.
Румянец залил его щеки, глаза блестели.
– Готовься, Халимон. Мы им тут теперь дубов наломаем.
…Старый Вежа еще издали услышал гомон и понял: обошлось.
И все же он привычно сдержался и не проявил своих чувств. Углубился в книгу, а потом бросил на Алеся такой взгляд, словно ничего и не случилось, словно только час назад они расстались.
– Что это крик и шум велик и речи мнозие во всех боярех?
Алесь рассказал.
– Ну, и что думаешь делать?
– Украду.
– Ты, братец, прежде чем красть, хоть оденься. Как ты женихаться поедешь таким Христом? Тут тебе не Палестина и не Эммаус. – И улыбнулся: – Ей-богу, выздоровел. Вишь ты, как сразу к деятельности его потянуло. Идешь на женитьбу, как на слом головы… Ну, это всюду так. А еще что?
– Таркайла надо проучить.
– Как? – спросил дед.
– Дуэль.
– С ним? Во-первых, это уже не дуэль, а триэль. Их ведь двое. А во-вторых, не пойдет он с тобой драться. Он торговец, хотя и дворянин.
– Надо, чтоб Исленьев знал.
– Зачем? И так ему с нами хлопотно. Русские люди близко к сердцу принимают чужие беды. А ему их хватило и своих, еще со времен мятежа… В дело с Таркайлом деда не втягивай. – Подумал. Затем сказал: – На Таркайла нельзя смотреть как на равного. Прикажи, чтоб запрягли лошадей.
…Впервые за последнее время дед переодевался в парадную одежду. Сидел рядом с внуком, величественный и строгий. Молчал всю дорогу до дома Таркайлов. Когда пролетка остановилась, сказал Алесю:
– Жди меня здесь.
Пошел в дом. На пороге его попыталась было задержать Сабина:
– Брата дома нет. Только панский брат.
– Он мне и нужен.
И прошел мимо нее.
Тодар Таркайло увидел и растерялся. По испугу в глазах Вежа убедился – он.
– Как дела пана?
– Какие? – спросил Таркайло.
– Пан знает, какие. Не мне их ему напоминать.
– Я, простите, не понимаю…
– Напрасно. А монастырь пан Тодар помнит?
– Ей-богу, нет…
– Хватит, – бросил Вежа, – не будем тратить время. И ты знаешь все, и я. Не мне это все уточнять, не мне, конечно, на тебя доносить. Но предупреждаю, Тодар, чтоб знал, на кого поднимаешь руку. Мальчик мой Алесь… Обижать его и царю не позволю, а тебе и подавно.
– Вы забываетесь…
– Я – нет. А вот ты забылся. Ты никогда не думал, почему твои векселя Платон Рылов из Ветки к взысканию не подает?… А зря. Подумай. Векселя те у меня. Не хотел я позора человеку одной земли, дворянину. Тебе следует прийти, – к кому уж сам знаешь, – и просить разрешения tirer mon epingle du jeu.[157]