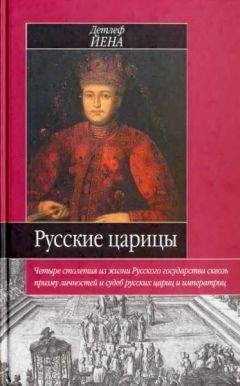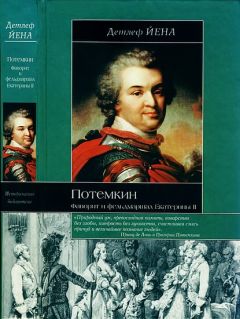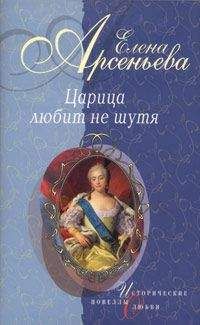Владимир КОРОТКЕВИЧ - Колосья под серпом твоим
И, наконец, между ним и Вежей сидел самый молодой член собрания, вопреки всем правилам и по настоянию Вежи введенный в этот круг секретарем и архивистом, – Юлиан Раткевич. Вежа настаивал и добился своего. Нужен был один помоложе, потому что у большинства не хватало уже сил, а Раткевич был, пожалуй, одним из наилучших знатоков традиций.
Шло заседание тайной рады старейшин, знаменитой «седой рады» Приднепровья. Тех, кто хранили необходимые знания, тайны, сберегали в памяти обычаи и следили за генеалогией местного населения. Вежа издавна был главой «седой рады», хотя и отпускал в ее адрес шуточки.
– Щелкунчики замшелые… Своеобразный «Готский альманах». Дебре из Дебрей.[155] Рыцари манной каши и тертой моркови.
Это были еще самые мягкие из его эпитетов. Но сегодня Вежа, страшно похудевший, смотрел на «рыцарей манной каши» с тревогой.
Молчание становилось тяжелым.
– Мроя, – глухо сказал Янка Комар.
Молчание.
– Мроя, – сказал седой до прозелени старый Витахмович. – Память предков. Он умрет.
Желтое лицо Юлиана Раткевича было неподвижным.
– Пожалуй, в самом деле все, – сказал Раткевич. – Он не хочет жить… Сколько времени ее у нас не было?
Винцук Раминский думал:
– Что-то не помню. Не со времен ли польского раздела, пан Витахмович?
– Тогда, – ответил тот. – Я почему помню – мне тогда было тридцать четыре, и я собирался второй раз жениться. Разных невест предлагали. Одна была сестрой Юрася Жуковского. Пан Юрась заболел в семьдесят третьем. При Екатерине. Ему начала сниться заново чужая жизнь. Но не кусками, из разных времен, а словно… одним… потоком. Снилось ему, как делали запасы в пуще, как убивали оленей и зубров, как солили. Как потом шла рать на Крутые горы бить татар. Сон его прервался в середине боя – он умер.
Подумал.
– Еще раньше, года за четыре, заболели Алехнович-Списа и Янук Корста, двоюродный брат прапрадеда этого щенка Юлиана.
Витахмович помнил спор о том, принимать ли Раткевича, но начисто забыл, – а может, сделал вид? – что «этот щенок» сидит сейчас среди них.
Юлиан улыбнулся про себя.
– Списа умер, – сказал Витахмович. – А Корста выжил. Хотя, судя по такой могильной фамилии, умереть бы Корсте…[156] Но тут уж как кто, так что ты, Даниил, не отчаивайся.
Забубнил:
– Болезнь… болезнь… болезнь… Такая уже болезнь. Что-то не слышал я, чтоб этой болезнью кто-нибудь, кроме нас, болел.
Лукьян Сипайло сказал:
– Рада, помните, предполагала, что и у Акима, вашего отца, были зачатки.
– Рада отказалась от этой мысли, – сказал Борисевич-Кольчуга.
Вежа сплел пальцы.
– Черт, – сказал он. – Глупая впечатлительность. Идиотская впечатлительность. И такие страшные для молодого события.
– Силы ослабели, – сказал Комар. – Безразличие.
– Безотчетно пытается отойти от невыносимой действительности, – сказал Юлиан Раткевич.
– Что же делать? – спросил дед. – Я знаю: когда-то при первых же признаках в монастырь уходили. Покой. Труд. Но тогда монастырь был крепостью. Монахи границы защищали, подступы к городам. А теперь?… Загорский – да в монастырь! К божьим крысам!.. Что же делать, «седая рада»?
– Церковь оставь, – сказал Юлиан. – Разве она справилась хотя бы с одним делом, которое ей поручили, – с добром, с любовью, с моралью?
– Да, может, обойдется, – сказал Винцук Раминский.
– Нет, – возразил Сипало. – Усталость – смерть. Иди, чтоб жилы трещали, – и станешь жить долго. Надо, чтоб он никогда больше не уставал. Успокоить его надо… Покой.
Все молчали. Потом Вежа несмело сказал:
– Так что? Небо?
– По-видимому, – сказал Борисевич-Кольчуга. – Больше ничего не сделаешь.
– Где? – спросил Сипайло.
Вежа кашлянул:
– Храм солнца!
Юлиан подумал.
– Пожалуй, правильно. Самое высокое, самое близкое к небу место. Дольше всей округи видит солнце. Музыка, трубы, эти не повредят?
– А чем они повредят? – сказал Вежа. – Во время восхода солнца радостное пение, при закате – печальное. Наконец, как Комар скажет.
Все смотрели на мрачного Янку Комара, главного человека в том деле, которое они собирались совершить.
– Крутой пригорок, – сказал Комар. – Макушка голая. Неба будет сколько хочешь. Мало человек его видит, как, простите за сравнение, свинья, а тут за считанные дни – на всю жизнь. Пусть будет так. Только в парк не пускайте никого, даже самых близких. Ему теперь нельзя видеть людей.
* * *Он лежал перед ними голый и не стыдился этого. Ему было все равно. Только немного неприятно, что все окна открыты, занавеси сняты и свежий ветерок обвевает голое тело. Было холодновато, и это мешало проснуться от сна, в котором были дед, Михалина и другие, снова начать жить, видеть пожары, поток крови в башенных водостоках, слышать звуки сечи, стоны стали и выкрики.
Его около часа парили в самом горячем пару, хлестали вениками и обливали мятной водой. Затем еще почти час мыли в прохладном бассейне. Он страшно замерз. И вот теперь, не ощущая ничего, кроме холода, он лежал на мягкой постилке.
Янка Комар сидел возле него и странно, какими-то мелкими движениями трех пальцев, гладил его голову. От этих прикосновений клонило в чудесную дрему, слегка покалывало в корнях волос.
Знаменитый специалист Комар начинал свое дело. Редкое, необъяснимое дело. То, которого не знал никто в загорской округе. Только он да два его ученика. Ученики и слуги стояли рядом, а Комар гладил и гладил голову, смотрел в Алесевы глаза. И от этого становилось немного легче.
И наконец Комар заговорил. Даже не заговорил, а словно запел печально-тонким речитативом:
– Гляди, гляди на мир. Гляди, любимый хлопче, на мир. Гляди. Гляди. Небо над тобой. Много. Много неба. Синего-синего неба. Облака плывут, как корабли. Несут, несут душу над землей. Несут. Земля внизу большая. Земля внизу теплая. Земля внизу добрая. И небо над землей большое. И небо над землей теплое. И небо над землей доброе. И облака между небом и землей. Ты в облаках, облака в небе. Синее-синее небо, белые-белые облака, чистая-чистая земля. Нельзя не быть счастливым. Нельзя. Нельзя. Погляди, убедись, что ты счастлив.
Алесь словно сквозь песню чувствовал прикосновения уверенных, сильных и заботливо-осторожных рук к своему телу. Двое слуг занимались ногами, два ученика – грудной клеткой, руками и плечами. Они перебирали каждый мускул тела.
– Ты здоров. Ты свободен. Ветер обвевает твое тело. Небо смотрит в окно. Небо. Небо.
Голос пел так с час. Уверенные руки за это время перебрали не только каждый мускул, а, казалось, каждую связку, каждый сосуд и нерв, каждую жилку. И одновременно с этими движениями в тело откуда-то вливались удивительное успокоение, равновесие и спокойная сила.
Его снова облили водой. И снова руки. И снова речитатив Комара и глаза, которые видят тебя до дна.
Запели над ним голоса. Он не понимал слов, но мелодия, простая, пленительная и чарующая, с перепадами от высоких звуков к низким, как будто властно отрывала его от привычного, от мира, где господствовала солдатня, где чужие люди, так не похожие на людей, творили с людьми что хотели, где на дорогах звучал крик «ку-га».
Он потерял на миг всякое сознание, а когда очнулся от очистительного сна, почувствовал, что его несут, видимо, на носилках и подняв над головой, потому что он не видел тех, кто нес. Он просто как бы плыл между небом и землей, лицом к лицу с солнцем и небом. И где-то за ним серебряно и звонко, словно из жерла криницы, словно из журавлиного горла, пела труба.
Он лежал.
Мягкая постилка была под ним. Холодная простыня лежала в ногах. Ложе стояло в беседке. Люди принесли его сюда и оставили одного, нагого, наедине с небом. Вокруг были розово-оранжевые колонны, вознесшиеся в небо. Он ничего не видел, кроме них и неба.
Так он лежал.
Он только пил воду, иногда брал лед, прикладывал к голове и тер им грудь и руки.
Во всем том, что его окружало, была великая чистота и отрешенность. И он словно плыл на своем ложе навстречу облакам. Между небом и землей, как на воздушном корабле.
Опускался маковый цветок солнца. Холодало. Серебряные трубы начинали звенеть. Тихо-тихо, словно в них лилась кристальная и звонкая вода. И печально-печально, как будто сама земля прощалась с солнцем.
Он почти не поднимался. Только в жару обливался водой. Никто не подходил к нему. Людей не было. Он не вспоминал и не думал ни о чем.
Ночью, приятно холодея под простыней, он слышал сквозь дрему крики сов. Смотрел в небо, видел, как падали с него звезды.
Приходил день. Трубы начинали нагреваться и радостно звенеть. И ему, что согревался вместе с ними, начало через несколько дней казаться, что это в нем самом звенит тепло, и ветер, и то, что возвращалось откуда-то, наполняя свежестью тело.