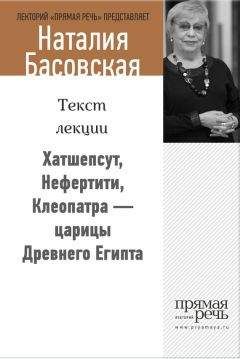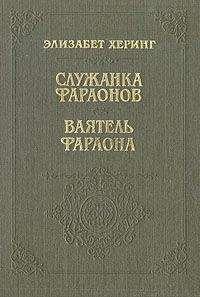Гарри Табачник - Последние хозяева Кремля
В беседе с корреспондентами итальянской коммунистической газеты „Унита” он сказал, что любит читать книги по философии. Это интересное замечание. Но увлекаться чтением серьезных книг можно по-разному. Есть такие, которым кажется, что сам факт того, что они держат серьезную книгу в руках, уже приобщает их к высшим достижениям человеческой мысли. Им кажется, что если они прочтут нечто замысловатое, то тем самым сразу выскочат вперед и, перепрыгнув через ступеньки необходимого знания, необходимых азов, узнают истину в последней инстанции. Им нужны готовые формулы. Им тяжек и непонятен процесс поиска истины, открывание ее самому. Они думают, что если прочитать всю энциклопедию, то учиться больше нечему и что вся мудрость и знания у них в кармане.
В книге Горбачева нет ничего, что свидетельствовало бы об этом увлечении философией, обнаружило бы широту его знаний и диапазон его культуры. У него, по-видимому, даже не было потребности в этом, иначе он поручил бы подобрать необходимый материал своим советникам. И в этом, несмотря на свою принадлежность к иному поколению, современный язык, уснащенный такими словечками технарей, как „заделать запас прочности”, „подпитать систему”, „выйти на решение”, он остается похожим на своих предшественников. Какое же, спрашивается, может он предложить миру „новое мышление,”и почему мир должен считать его новым и воспринять от руководителя страны, известной своей отсталостью?
Ответа Горбачев не дает. Впрочем, он не дает правдивого ответа и на вопрос о том, что же вызвало перестройку. Ведь в конце концов то, что принесло Советскому Союзу желанный статус сверхдержавы — военная экономика, — продолжало функционировать относительно нормально. А она — важнейший фактор, и в ней занята значительная часть трудового населения. Действовали и налаженные годами связи между потребителями и подпольной экономикой. Так могло продолжаться и дальше. И кто знает, как долго.
Чтобы понять, почему возникла мысль о перестройке, надо перенестись к востоку от Сан-Франциско, где глубоко под поверхностью Калифорнийской пустыни находится огромный бункер. Из бункера в разные стороны уходят несколько туннелей. В одном из них — образцы нового оружия, которое, по замыслу его создателей, должно в будущем избавить от ужаса термоядерной войны. Что это за оружие?
Вот один из его вариантов: пушка, стреляющая нейтронами высокой энергии. Залп такой пушки сопровождается громом и молнией, но не в переносном, а в самом настоящем смысле слова. Летит такая молния со скоростью, близкой к скорости света. Цель ее — поразить советскую континентальную баллистическую ракету. Попав в ракету, молния выводит ее из строя.
Вот эта предложенная президентом Рейганом „стратегическая инициатива” не только открывала новые горизонты в науке, она вызвала переполох, смятение, панику в Кремле. Она привносила в гонку вооружений совершенно новый элемент — достижения научно-технической революции, стремительно развивающейся на Западе, но еще даже не перешагнувшей порог СССР.
Отставание его в компьютерах, средствах коммуникации и информации становилось обнажающе очевидным. Соревнование с Западом, где результатов можно было достичь максимальным использованием грубой силы, действуя, образно говоря, молотом, теперь безнадежно устаревало. Серп и молот явно выходили из употребления. Нужна была иная техника, она требовала иного к себе отношения, ею надо было управлять иначе, и для управления ею нужны были иные люди. Но где было их взять, если действовала, как говорит писатель Бакланов, „многолетняя система отбора на должности”, при которой отсеивались талантливые, инициативные люди? Нужно было ломать „административную систему, действующую по приказам администраторов”. Если известный историк Д. Лихачев характерным для Московского государства ХIV — ХV веков считал „иерархическое устройство... где люди расценивались по их положению на лестнице отношений”, то ведь и теперь предстоит освободить общество от партийной иерархии, перестать судить о людях по тому, на какой ступеньке партийной лестницы они стоят, какими внутри нее обладают связями, и начать оценивать людей по знаниям, возможностям и таланту.
Только боязнь отстать и в военном отношении и потерять статус великой державы и вызвала перестройку, а с ней и призывы к гласности и демократизации.
Если бы сбылось то, о чем говорил после падения Сайгона в своей секретной речи Брежнев, и коммунизм действительно овладел миром, никогда и никаких разговоров о демократизации в Москве бы не услышали. Рабы, ставшие бы рабами победившей империи и получившие бы звание имперских, могли бы пребывать в этом состоянии и оставаться нищими, но имперское чванство наполняло бы их гордостью и это заменяло бы им стремление к свободе. Только поражение призывавших к „подмораживанию” Запада пророков одностороннего разоружения, только существование демократии, столь долгие годы проклинаемой и ненавидимой, подрываемой изнутри и теми, кто наслаждается ее благами, и атакуемой извне, дало надежду на свободу и демократию тем, кто никогда не ведал, что значит быть свободным, что значит жить в условиях демократии. Только потому, что выстояла демократия на Западе, заговорили о демократизации в Кремле. Если это произойдет, то СССР начнет медленный путь, чтобы вновь стать страной, где присутствует основная характеристика цивилизованного общества, которой, по мнению Аденауэра, является „правление Закона, который должен отражать естественное право, т. е. основываться на абсолютных моральных ценностях”.
По сути дела, перед Горбачевым на исходе XX века стоит та же задача, которую пришлось решать Аденауэру и другим лидерам разоренных Второй мировой войной стран. Там тоже надо было восстанавливать правление закона, приучать граждан к его соблюдению и на этой основе создавать экономическое процветание. Но, кроме законов, нужно и нечто еще, о чем ставший в 1945 г. главой итальянского правительства де Гаспери на заре века сказал так: „Прежде всего будьте католиками, потом итальянцами, потом демократами”.
Он имел в виду, что без твердых моральных принципов, утверждаемых религией, нельзя стать тем, кем человеку предназначено быть, нельзя осознать себя ни принадлежащим к нации, ни быть подлинным демократом. Споря о роли социализма в истории с Муссолини в меранской пивной в 1909 г., де Гаспери доказывал необходимость основывать политическую деятельность не на насилии, как утверждал его оппонент, которого он позднее назвал „большевиком в черной рубашке”, а на абсолютных принципах. Вот эта приверженность принципам и помогла и де Гаспери, и Аденауэру направить свои страны по пути процветания, все еще остающегося мечтой советских людей.
ГДЕ ВЗЯТЬ ПРИНЦИПЫ?
Предания повествуют о том, что апостол Андрей был первым, кто принес учение Христа на ту землю, которая тогда называлась Скифией, но которой скоро предстояло обрести имя Руси. Распятый в Патросе на косом кресте, брат апостола Петра под именем Андрея Первозванного вошел в русскую жизнь, постоянно напоминая о себе трепещущим на ветру андреевским флагом военных кораблей и учрежденным в 1698 г. Петром Первым орденом, ставшим высшей наградой Российской империи и дававшимся, как гласит его девиз, „За Веру и Верность”.
За Андреем пришли на Русь с проповедью христианства его ученики Пинна, Ринна и Нинна. Первым русским князем, принявшим крещение, был Аскольд. Христиан в дружине Игоря было так много, что для них в Киеве выстроили церковь св. Илии. А в 988 г. приказал сбросить Перуна в Днепр князь Владимир Красное Солнышко. Как повествует легенда, главное, что побудило Владимира принять христианство, это рассказ грека о страшном суде, заставивший его задуматься о том, что ждет человека после того, как его жизнь на земле будет окончена.
За три с половиной века до этого такой же вопрос встал и перед королем Нортумберлендским Эдвином, тоже раздумывавшим над тем, стоит ли принять новую веру. Делясь с ним своими сомнениями, один из его вельмож дал ему такой совет: „земная жизнь человека — непродолжительное мгновение. Время темно и беспокойно для нас, нас мучит невозможность узнать его. Если новое учение может сообщить что-ни-будь верное о нем, то следует его принять”.
Загнанные по приказу князя в Днепр, киевляне тем не менее крестились охотно, говоря: „Аще бы се недобро было, не бы сего князь и бояре прияли”.
Но несмотря на столь долгую историю, на андреевский флаг, на „сорок сороков”, на то, что „иконы висели в каждом доме, на железнодорожных станциях и в учреждениях, в кабаках и магазинах. Каждый русский человек был крещен и миропомазан. Большинство приходило к исповеди и по крайней мере раз в год принимало святое причастие. Русские венчались в церкви и погребались по православному обряду. Церковные праздники отмечались всем населением, в особенности Рождество и Пасха. Тесная интимная связь между повседневной жизнью и Церковью распространялась на всю страну. Любое важное государственное событие сопровождалось богослужением, а православные праздники были днями отдыха”, несмотря на все это христианство не сумело противостоять натиску коммунизма на святую Русь. Оно, по-видимому, так и не смогло за многие века проникнуть глубоко в душу народную. Слой его оказался хрупкой пленкой, взорванной половодьем вырывавшихся наружу звериных инстинктов, которые, как предупреждал Достоевский, сдерживаются только страхом божественного возмездия, некогда заставившего трепетать князя Владимира, но о котором забыли пошедшие за коммунистами.