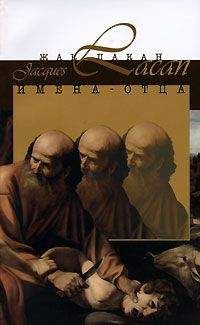Лютер Блиссет - Кью
Подняться на ноги стоит мне непомерных усилий. Гресбек бросает на меня безмятежный взгляд. Я сажусь на край стола, отодвинув карту Адриатики. Пришел мой черед.
— Преимущество того, что мы зашли так далеко, состоит в том, что нам больше не надо обманывать друг друга. В пятьдесят лет у меня больше не горит священный бунтарский огонь в крови, и я не спал две ночи. Усталость поможет мне высказаться ясно, сведя слова к минимуму. — Прижимаю пальцы к вискам, чтобы хоть как-то облегчить головную боль. — Твоему хозяину семьдесят пять лет. Возраст, в котором большая часть людей уже гниет под землей. Меня действительно интересует, что же этот мерзкий старикашка готовит себе, своим людям и всем нам. Меня интересует, какой же план он в действительности вынашивал все эти годы. Искоренить ересь? Наказать нищих за то, что они пытаются выпрашивать милостыню? Создать трибуналы инквизиции, чтобы контролировать даже мысли людей? Мне хотелось бы знать, с какой целью он сосредоточил в своих руках такую власть? И даже теперь, когда головы кардиналов-спиритуалистов летят одна за другой, а в Венеции начинается наступление на евреев, мне интересно почему. Тут дело не в деньгах сефардов, не в делах Светлейшей, не в сведении счетов с врагами-спиритуалистами. И даже не в Святом престоле, Генрих. До сих пор Караффа никогда не выдвигал своей кандидатуры на трон понтифика. На кону в этой игре нечто большее, чем все это, вместе взятое. Что-то, нависшее черной тенью над нашими головами. Чтобы понять, что же здесь происходит, мы должны знать его план, и знать до конца.
Под усами Гресбека играет улыбка, в которой нет вызова.
Хрипло вздохнув, он начинает глубоким голосом:
— План. Тот, над которым Караффа работал всю свою жизнь. Та фраза, которая звучит и в проповеди последнего сельского священника и написана на флагах армий, и на мечах завоевателей Нового Света, и на фасадах приходских церквей, и на кафедрах. — Эти слова звучат твердо, словно падают камни. — К вящей славе Господней.
Он слегка наклоняет голову:
— Установить порядок во всем мире. Позволить церкви святого Петра оставаться верховным судьей, решающим судьбы отдельных людей и целых народов. Лучше всех остальных Караффа понял, что лежало в основе ее тысячелетней власти. Простая мысль — страх перед Богом. Сложный и гигантский аппарат, который вобьет эту мысль в головы и в поступки людей. Распространять эту идею, контролировать развитие мысли, следить за всем, что творится в душах и в разумах, контролировать все, натравливать инквизицию на любую попытку преодолеть этот страх. Караффа взял на себя непосильную для человека ношу — обновить основы этой власти в свете наступления нового времени. Он намерен искоренить все недостатки в организации церкви, обратив их в ее сильные стороны. Лютер был и самым непримиримым его противником, и самым надежным его союзником. Не отвергая страх перед Богом, этот августинский священник дал всем понять: перемены необходимы. Первыми это поняли самые умные люди, такие, как Караффа, такие, как Пол, как основатели новых монашеских орденов. Лишь они одни участвуют в этой игре уже более тридцати лет. Караффе пришлось ответить соответствующим оружием на вызов, брошенный Лютером. И это породило конфликт: Пол и спиритуалисты хотели выступить посредниками лишь для того, чтобы сохранить единство христианского мира. А Караффа — нет. Он предпочел предоставить протестантов их собственной судьбе, но не допустить появления ни малейшей трещины в абсолютной власти Церкви: он был вынужден отвечать лютеранам ударом на удар, заботиться о чистоте собственных рядов и создавать новые институты, которые смогут ответить на брошенный вызов. Если бы спиритуалисты одержали победу, для Рима это означало бы потерю абсолютной власти. Если какому-то священнику или даже простому мирянину, такому, как Кальвин, было бы дозволено на равных дискутировать с Отцами Церкви, что стало бы с тысячелетним порядком? Что стало бы с Римско-католической церковью? Что произошло бы с Планом?
Гресбек останавливается, совершенно изможденный.
Микеш больше не в силах сдерживаться:
— Хотя мы и зашли так далеко, мой уважаемый господин, я позволю себе задать вопрос немного из другой области. Что стало бы с нами?
Тот же ледяной тон:
— Вами бы пожертвовали.
Я смотрю ему прямо в глаза:
— К вящей славе Господней.
— Вот именно. И на этот раз, герр Микеш, все будет совсем не так, как в Португалии, или в Испании, или в Нижних Землях. На этот раз с вами покончат раз и навсегда. Дело донны Беатрис уже запущено в производство; ее будут судить всего через пару дней. Венецианцев интересуют только ваши деньги. Караффа жаждет продемонстрировать власть инквизиции. Он желает лишить вас сил, создать вокруг вас пустыню и раздавить вас. Но так, чтобы это стало уроком для всех. Вы не сможете купить свободу, как делали в прошлом: люди Караффы неподкупны. Им поручена миссия, а свою работу они делают очень хорошо. Торговцам не испугать их бойкотом — они попросту ничего не значат. Вы правы: Венеция нанесет себе непоправимый ущерб. Но тот, кто не приспособится к новым временам, обречен на гибель.
Жуан почернел, он, выпрямившись, сидит на своем стуле, как статуя из красного дерева, не произнося ни слова.
Гресбек вновь обращается ко мне:
— И твоих анабаптистов сметут. Всех до единого.
— Невозможно.
— Идея Тициана была прекрасно продумана. Но совершенных планов не существует: довериться не тому человеку — обычная ошибка, за которую всегда приходится расплачиваться.
У меня в животе спазм.
— Две недели назад Пьетро Манельфи сдался инквизитору Болоньи. У него действительно превосходная память. Он выдал нам все имена, профессии и адреса членов секты. Естественно, он рассказал и о Тициане. Если он и в дальнейшем будет столь же полезен, то, возможно, заслужит прощение.
Я глубоко вдыхаю: в голове все перепуталось. Потом возникает предчувствие.
— Ты с ним встречался.
Он кашляет:
— Некоторое время я был на возбужденном против него процессе: я надеялся, что он выведет меня на тебя. Едва узнав эту новость, я поспешил в Болонью. И как раз успел встретиться с ним, так как Леандро Альберти, главный инквизитор, уже решил передать его в Рим, чтобы не брать на себя ответственность, расследуя столь важное дело. В данный момент Манельфи повторяет свои признания перед конгрегацией «Святой службы». Дни всех тех, кого он повторно крестил в эти годы, сочтены. — Взгляд его серых глаз перемещается с меня на Жуана. — А вы молодцы. Печатать «Благодеяние Христа», завести знакомства со всеми этими учеными и книжниками. Удар Понтормо оказался просто восхитительным. Анабаптизм был настолько абсурдной идеей, что она могла сработать. Но вам не удалось сделать этого. Не удалось, так как вы пошли против Караффы.
Жуан элегантным жестом моментально вытаскивает шпагу из ножен:
— Тогда, ваше превосходительство, позвольте мне по крайней мере получить удовольствие, лично отправив вас в преисподнюю, лишив возможности насладиться лицезрением плодов собственного труда.
Гресбек неподвижен. Он даже не смотрит на лезвие.
Я поднимаю руку:
— Нет. Ты нам еще не все сказал. Ты знал, какая судьба тебя ожидает, ты знал это уже тогда, когда посмотрел мне в глаза. Ты можешь молчать. Ты можешь ничего не сказать и встретить свою смерть, заставив нас всех страдать от неуверенности.
Он улыбается:
— Мое время истекло, Герт. Как только евреев поставят на колени, Караффа прикажет убить меня. Я слишком много знаю.
— Но ведь есть еще что-то, так?
— Не существует превосходных планов. Не бывает ни одной интриги, застрахованной от непредвиденных обстоятельств. Неожиданности случаются всегда: мелочь, которая может разрушить все в последний момент из-за того, что о ней забыли или не обратили на нее должного внимания, внезапно превращается в ключ, с помощью которого можно разобрать весь механизм.
Жуан опускает шпагу:
— О чем вы говорите?
Гресбек:
— И у меня больше нет прежнего огня в крови, Герт. Я уже мертв. Покончишь ли со мной ты или наемные убийцы Караффы — не слишком большая разница. Всю свою жизнь я
выполнял приказы. Но я все же могу позволить себе другой конец, чем тот, что ждет меня за ближайшим углом. Я могу предоставить эту привилегию тебе, капитан Герт, сопернику и врагу всей моей жизни.
— Почему?
— Потому что мы две стороны одной и той же монеты, потому что мы оба сражались на одной и той же войне и никто из нас не вышел победителем. На поле боя господствует Караффа, надежды голодранцев растоптаны в грязи, но даже Коэле должен уйти со сцены.
На этот раз улыбаюсь я: слова слетают с моего языка легко, словно сами собой: