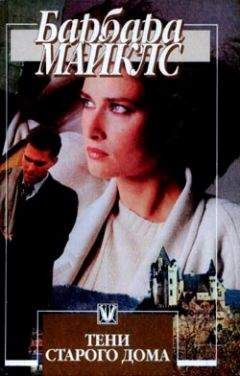Эфраим Баух - Ницше и нимфы
Время летнего провисания
263Полдень полон полынной скуки. Тот самый Вечный полдень Заратустры, стрелка вечности под тихим небом Веймара.
Лама обустраивает обширный дом на Луизенштрассе, — виллу Зильберблик. Туда, без всяких церемоний, сестрица перевезла и меня. Больная Мама осталась доживать в одиночестве в Наумбурге. Помощники Ламы, все же, вняли моей просьбе: повели в церковь Петра и Павла, к знаменитому алтарю работы Лукаса Кранаха старшего. Наняли извозчика, и он провез меня мимо стоящих рядом на вечной страже истинной немецкой культуры парной статуей — Гёте и Шиллера, напоминающих о литературном расцвете Веймара в восемнадцатом — начале девятнадцатого века. Для меня же главным было то, что в этом городе Иоганн Себастьян Бах написал свои знаменитые токкаты. Полдневное солнце сияет над Веймаром. И в саду Лама, неугомонная моя сестрица, угощает чаем знатных гостей, которые проделали долгий путь — из Бразилии или из Перу — чтобы увидеть меня воочию. Как египетская мумия, которая почему-то забыла окончательно умереть, я наблюдаю за спектаклем моей смерти, чувствуя себя прахом перед гостями. Спасают меня молчание и мысли о Бахе, и пока длится визит гостей, у меня созревает посвященное Баху стихотворение. Потустороннее молчание касается меня, как милосердие и снисхождение к человеку, лишенному возможности преодолеть предел между тем и этим миром.
Контрапунктной поступью Баха время срезав,
Усыпляя сладкой неволей,
Музыка шелушится диатезом диезов
И разрушает ткань мира молью бемолей.
Невидимый неведомый мирок
Похож на морок —
Иль скорей — на рок,
Куда ты попадаешь ненароком,
Не справившись с обыкновенным Роком.
В звуках оголяется мера мира.
Опрокинутым книзу луком безмолвствует лира,
Подоплека
Всевидящего ока.
О, как нужна мне такая морока.
Удивительное ощущение — чувствовать себя затерянным среди своих. Но поздно осваивать этот мир в новом контексте после всего сделанного. Слежу не столько за речью гостей, сколько за артикуляцией их ртов.
Речь исчезает в миг своего произнесения. Знак вступает в поединок с вечностью. В юности книги подобны своему автору, пробующему пальцами ног температуру моря, осторожно нащупывающему дно и еще не подозревающему о том, какие глубины, провалы, водовороты ожидают его в будущей жизни, расчисленной на тексты его книг.
Он еще не знает, во что ввязывается, еще не понимает, что книга это некий нелинейный лабиринт или, вернее, гипертекст, — уже состоявшаяся неисчезающая цельность, в чем-то изменившая духовный баланс мира, и уже невозможно вернуться назад, в исходную точку.
Солнце скоро начнет садиться, луг станет сырым, от лесов повеет прохладой. Что-то неведомое окружает меня и задумчиво смотрит. Гости шевелят губами.
Как! Ты жив ещё, Заратустра? Почему? Зачем? Для чего? Куда? Где? Как? Разве не безумие — жить еще?
Слышишь, шепчут ангелы: мы прощаем тебе твою вечернюю печаль.
Помни: шкура медведя, которую делят философы, уже сильно потрёпана. О, любовь, любовь, вернись ко мне, вдохни жизнь в мои вылеченные крылья! Любви, Ариадна! Только Козима может вернуть меня в мир любви, в котором встречаются Дионис и Иисус в лоне Вечно Женственного, вечного желания и вожделения.
Мой Бог космической иронии, сидящий судьей над нами, вынес полагающийся мне приговор: я здесь, в Веймаре, империи духа Гёте, я закрыт в новых четырех стенах: моя вера в Вечно Женственное — вера на час — встала надо мной — и я буду навеки проклят.
Мой дом полон утешителей Иова — художников, писателей, профессоров и людей богемы, — высиживающих яйца добрых советов в дремучих шевелюрах их волос. К счастью, я могу отвергать все их глупые советы, благодаря тому, что я несколько не в себе.
Гости, гости: их лица, как монеты, падающие в карман Ламы.
Достаточно хранить на моем лице замкнутое выражение, чтобы доказать, что я не понимаю их, по сути, издевки. Сестрица Элизабет оттесняет их вежливо, как бы даже с болью, мол, оставьте в покое этого несчастного: не видите, что ли, что мозг его напрочь перестал функционировать. Чем больше понимаю интеллигенцию, тем больше наслаждаюсь изречением Наполеона: «Эти ученые как моль в моих одеждах. Я отряхну их с себя».
Я же стараюсь возвыситься над переживаниями моего скота, изойти кровью, превратить зеленую траву в красную траву моими воздыханиями в постели.
Но воздыхания прерваны Ламой, не допускающей того, что мое разорванное небо вспыхивает молниями и сотрясается громами в то время, как я приятно улыбаюсь тем, кого мне представляют — словно это список кораблей Гомера.
Нет, мнится мне не гроза, а грядущая катастрофа, и я даже не Кассандра, провидящая грядущее в границах маленькой Эллады: речь идет об огромном мире Европы и Азии, для которого губителен бег времени, подкативший смертельным комом к моему горлу.
Эти же слабо мыслящие интеллектуалы, напуганные собственной тенью, воспринимают меня безумцем.
Так им легче катиться в бездну.
И вообще, я уже все сказал, всех предупредил, но никто меня не услышал.
Теперь, увенчанный Свыше обетом молчания, я едва дышу в черной дыре безмолвия, хоть и обставленной мебелью и книгами, обреченными первыми обратиться в летучий прах.
Обет молчания означает, что только открою рот, тотчас же уйду из жизни. Лишь в таком состоянии можно оценить то малое, что осталось самым драгоценным — взгляд, улавливающий солнечную даль, тепло воздуха, смешанное с ароматом плодов фруктового сада.
Я научился не обращать внимания на толпу любопытствующих людей, которых с утра нагоняет Медуза Горгона, выступающая под ликом моей сестры, и они испуганно таращат на меня взгляды, как на какое-то чудовище. Они явно идут на риск лишь для того, чтобы потом хвастаться, что они видели безумного гения во плоти.
Я их жалею, ибо они-то пришиблены от рождения. Их ограниченность слабо отделяет их от животных.
Даже дорогие мои кони, хоть и молчаливы, как я, — живые воплощения вольности и летучести, мудрее их во сто раз. Только их существование мне близко и понятно.
Иногда я ощущаю чей-то пристально уставленный на меня взгляд: это конь, запряженный в экипаж, за окном, не имеющий никакого отношения к тем, кого привез на меня поглазеть, посылает мне привет и поддержку.
264Я не просто верую, я знаю: никто до меня не совершал такое неслыханное: одиннадцать лет быть верным обету молчания, когда эхо моих прозрений ширится во всем мире.
Мой девиз — последние слова Гамлета: «Остальное — молчание».
Я не просто верую, я знаю: через сто лет явится тот, в которого вернется моя бессмертная душа, согласно каббалистическому закону Бога, Яхве, и учению Эмпедокла о переселении душ, из которых я вывел постулаты собственной теории вечного возвращения.
Моему потомку, в значительной степени двойнику, передастся без потерь мой, пока еще потерянный гений, который нынешние тупые эскулапы вкупе с университетскими профессорами, истекающими слюной зависти, беспрекословно приписывают обыкновенному сумасшествию.
265Мой распорядок дня: с утра натощак повторяю наизусть лучшие из моих стихотворений, неизвестных миру.
После завтрака мысленно обхожу дозором все мои книги, возникающие в памяти одна за другой, по сути, вереницей прожитых лет.
Затем, моя алчная сестрица начнет небольшими стадами впускать носорожье племя туристов. И оно будет толпиться у входных дверей, дальше их сестрица не пускает. И оно будет пожирать глазами «сошедшего с ума гения», в своем уме подсчитывая, насколько это посещение им влетело в копеечку, и заранее предвкушать тот счастливый миг, когда они об этом сногсшибательном событии будут хвастаться таким же, как они, рогатым созданиям.
Я в это время успею сбежать от них, войдя в шкуру странника и отшельника, чтобы прогуляться по счастливым местам и мгновениям, обозначенным горами, лесами, озерами. И по ходу движения будут возникать на деревьях зарубки великих мыслей, оставленные мной через всю ушедшую мою жизнь в пути, чтобы по ним вернуться в обиталище гения.
Вот они, мысли, сравнения, метафоры, играя словами, вьются, как цветные бабочки, взлетающие с диких кустов, и нет необходимости в сачке, чтобы уловить их: они впечатаны в память на весь мой короткий и такой насыщенный мыслями, век.
В эти мгновения высшего сосредоточения мне совершенно все равно, что я не до конца совершенен.
Одно не дает мне покоя: моя преступная неряшливость с посеянными по всем путям моих странствий бумагами, этими клочками моих прозрений, которые понятны лишь мне, и только я знаю, что главное скрыто за их оборванными краями.