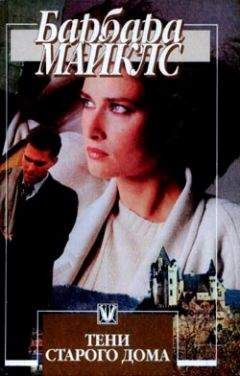Эфраим Баух - Ницше и нимфы
Заигрался я с этими масками. Обратного хода нет. Но существование продолжается, и надо приспосабливаться к новой, доселе никем не изведанной форме жизни — по ту сторону нормальности — с новым набором идей в перевернутом разуме.
Это не менее, а может, даже более захватывающе, чем в разуме нормальном, сильно потершемся от тысячелетнего употребления, так, что золото монет поистерлось до основания, и они оказались латунно легким материалом.
И вот — последняя маска. Ее невозможно снять. Надо к ней привыкнуть и жить по ее законам.
И первое: маска всегда молчит.
От маски невинности и незлобивости я доходил, варьируя формы притворства, до маски ужаса, за которой скрывается нечто еще более ужасающее, о чем я написал в «По ту сторону добра и зла»: «иногда даже глупость делается маской рокового, слишком уверенного в себе знания». В конце концов, это приводит к стремлению — скрыть скорбь под маской красоты.
За этим обманом скрывается логово последнего уединения, спасительный лабиринт молчания, куда уже никто не в силах за мной последовать, даже если он будет пытаться проникнуть туда по символам — смеющимся или плачущим маскам моих идей и толкований. Но я уже скрылся за последней маской весьма удачно разыгранного, к собственному моему удивлению, безумия, а, по сути, существования не от мира сего.
Воды реки Леты
Приступая к написанию «Ессе Номо», я и не подозревал того, что откроется из иллюзий моего подсознания, что станет моими «Записками из подполья», — записями, которые я тайком вел в доме умалишенных и прятал от преследующей каждую мою строчку моей сестрицы у одного из моих обожателей, тоже упрятанного в эту юдоль скорби.
Эти записи так и остались у него: он собирался их передать моему издателю через своих родственников, естественно, тайным путем.
Я верю в это, ибо честнее умалишенных в мире нет людей: в отличие от нормальных особей они умеют держать слово.
Честно говоря, меня не интересует дальнейшая судьба этих записей, лишь бы они не попали в когти сестрицы-ведьмы, которая страшнее реки забвения Леты. Путь жемчужин мудрости в летейские воды извилист, длителен, но нередко — спасителен.
Сестрица с этими жемчужинами расправляется по законам своей куцей памяти, которые абсолютно ничем не отличаются от повадок уголовников: единым взмахом пера уничтожает рукописи: насколько это просто и страшно — зачеркивать, рвать и сжигать листы, при этом, выискивая каждый клочок бумаги с моими записями. По сей день, она вынюхивает, как ищейка, в поисках записи о наших любовных связях. Для нее, как и для меня, они не прошли бесследно. Один раз физическое извращение привело ее к пожизненному духовному и душевному извращению и поддержке антисемитизма. А свалить все на евреев всегда естественно для германской души, даже если они ни в чем не виноваты. Да я и сам хотел бы это скрыть от себя, унести с собой в могилу. Это с такой разрушающей силой отразилось на всей моей жизни, сделав трагическими, по сути, невыносимыми, мои отношения с женщинами, лишив любви и семьи.
Единственно, помню, я записал о любовных связях между существами, вышедшими из одного материнского чрева — в семьях египетских фараонов, пытаясь определить собственное отношение к этому, то ли — примирительное, то ли двойственное, амбивалентное или отрицательное.
В данный момент меня волнует иное: что эта патологическая антисемитка и лгунья будет делать с моими рукописями — вычеркивать, приписывать, удалять и прибавлять.
И, все же, я уверен в том, что поздно или рано, истинные мои записи дойдут до читателя, по закону не исчезающей абсолютной правды, и все поставят на свое место.
258При написании «Ессе Номо», с каждым словом, мне верилось, что я подвожу окончательный итог своей жизни.
Но я и не подозревал, резко замирая перед затаенными безднами моего подсознания, чьи пасти были раскрыты в готовности меня поглотить, — сколько бесовщины таится за лицами, оказавшими сильнейшее влияние на формирование моей личности, — Иисусом, Вагнером, Шопенгауэром, Гейне, Сократом, как и матерью, сестрой, Козимой Вагнер и Лу Саломе. Это часть и в высшей степени превосходящая всё, вероятно, первая в мире попытка психологического анализа, совершаемого автором над самим собой. Такая жизнь, как моя, — сумбурная, многим кажущаяся пропащей, не может бесследно исчезнуть в водах Леты.
Учитывая условия, в которых я вел эти записи, они, конечно, не столь отточены, как мои книги. Но в них есть одно преимущество, они спонтанны, и сам рассказ принадлежит к категории событий, не составляющих равнодушным ни одно человеческое сердце, как жертвоприношение Авраамом сына Исаака на горе Мория, бичевание и распятие Иисуса, сына плотника Иосифа из Назарета.
И хотя я много и красиво распинался по поводу жизни, задуманной изначально как спектакль, здесь — речь об истинной, страшной и прекрасной жизни.
Да, жизнь эта была смертельно замкнутой, ныне завершающейся обетом молчания, настоянным на невыносимом одиночестве, без любимой, детей, с предательницей сестрой, без Бога, которого я лично публично умертвил, с постоянным проживанием в бесконечном лабиринте меблированных пещер, пропахших спертым духом ранее останавливающихся в них, редко моющихся, человеческих особей. Кажется, что только вчера они вышли из первобытного мира.
Мне самому трудно поверить в мое существование на языке, патетически восхваляющем прусский национализм, в атмосфере, насыщенной миазмами тысяч бездарных книг, которые издательства выбрасывают на рынок каждый год, а университеты выпекают сотни профессоров. Уж я-то знаю, что это такое: сам был молодым профессором.
В этом бедламе, называемом германской культурой и навязываемом всем и каждому, никто не интересуется истинной философией будущего в моих книгах. У них вызывает смех мое пророчество о будущем поражении Германии. Они вышучивают мои обличения их высокомерия по отношению к соседним народам, мое омерзение от их антисемитизма, от их ностальгии по германским мифам, ядовитое жало которых их же приведет в ближайшем будущем к позорному поражению. Меня воротит от их торжественного признания, вслед за Гёте, зла, как законной части абсолюта, — всего того, чем они отравили воздух европейской цивилизации.
Даже ближайших моих друзей ввергают в смятение мои книги-монологи.
Внезапно я обнаруживаю, что друзья юности и зрелых лет исчезли из поля моего зрения. В страхе оглядываюсь назад: о, боги, насколько все они отстали за это время, что я вышел далеко за пределы всего живущего и когда-либо жившего.
И уже нельзя остановиться: слишком силен разбег.
Что ж, я отлично знаю трагические судьбы моих предтеч, — объявленного безумцем любимого мной поэта Гёльдерина и эллинского мудреца Эмпедокла — и с радостью, а вовсе не с покорностью, принимаю их судьбу.
Не вызов, а — зов
Более всего, меня выводит из себя отношение немцев, унижающих и причиняющих веками страдания живущему среди них народу, которому мы, вместе со всем человечеством обязаны самым благородным человеком — Христом, самым чистым мудрецом — Спинозой, самой могущественной Книгой — Ветхим Заветом, и самым влиятельным нравственным законом в мире.
Их девизом всегда был не вызов, а — зов.
Их усилиями, мы, по меньшей мере, обязаны тем, что могло снова восторжествовать более естественное, разумное и во всяком случае немифическое объяснение мира. Их усилиями культурная цепь, которая соединяет нас теперь с просвещением греко-римской древности, не прервалась.
Если христианство сделало все, чтобы духовно подчинить Запад Востоку, то иудейство существенно помогло возвратной победе западного начала. Что ж, уже не одно столетие мы живем в неком разрыве и, в то же время, слиянии еврейства с эллинизмом, что и составляет единство того, что называют Историей.
Говорят: лицо — зеркало души.
Можно ли жизнь мерить лицом?
Но это же — лицемерие. Письмо честнее изреченной мысли.
И все же, это не просто недостаток человека, а глубокий разрыв мира, привязанного одновременно к греческим философам и еврейским пророкам.
Эта мысль не дает мне покоя еще со времени моего пребывания в шкуре профессора греческой филологии и литературы.
260Осторожно, чтобы не вызвать подозрения в притворстве, которое тщательно пытался скрыть за самовосхвалением, я торжественно возвестил о том, что приступил к самому главному своему произведению — «Переоценке всех ценностей». Но постепенно стал умалять достоинства этой будущей книги, так и не начав по черновикам ее писать. Это было подобно бомбе, которой я собирался сотрясти весь мир, но осторожно ее разрядил.