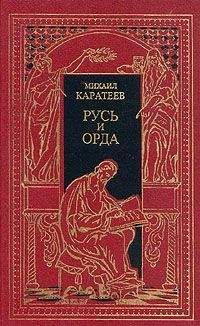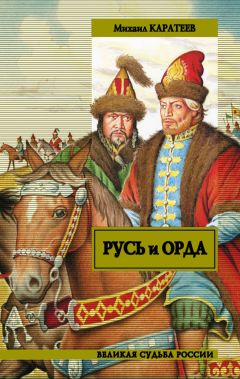Григорий Мирошниченко - Осада Азова
– Жестоко, но складно, – проговорил Черкашенин. – Следует вписать теперь вторую статью: «…Если который казак кривую дружбу повел с турком или с татарином, того казака лишать коня немедля, лишать бабы. Водить того казака в походы дальние пешмя, следом за конным войском. А ежели он же к тому же еще деньги своровал у другого казака, быть ему, чтоб другим то повадно не было, прикованным к пушке до тех пор, пока кто-либо не заплатит за него сворованные деньги».
Федор Порошин вписал вторую статью.
Третью статью объявил Татаринов:
– «Если любой казак, любой атаман без всякой на то причины поднял смуту в войске, в походе ли, иль не в походе, – того приговаривать к смерти, смотря по вине: кидать в воду, вешать на якоре за ребро, за подбородок, за руки, а нет – вешать за ноги вниз головой».
Порошин вписал третью статью.
– «…Некрепкую службу нес простой казак или старшинный, есаул ли, атаман ли, перебежал ли, лазутчиком стал ли, – того предавать той же лютой смерти, сажать на площади, нет – на поле, и стрелять в него из луков, пищалей, бить плетьми, сажать в воду, а помилованного держать в воде, чтоб только не захлебнулся. А если виноватого приговорили к смерти и вскоре пощадили, то лежачему под царским знаменем атаман войска должен выговаривать строго, бранить всячески, истязать, а под конец объявить: «Скурвый ты сын, придурок войска, прихвостень вражий! Пощадили мы тебя, дурь-голова, для царского величества. И ты выслужи ныне, собака, перед богом, перед царем и войском своей честью».
– Жестоко, братцы, ой как жестоко, – со вздохом проговорил Гришка Нечаев. – Так и в Москве еще не судили.
– Судили аль не судили, – сказал Порошин, – а тебе бы помолчать следовало: ноздря-то у тебя рваная?! На Москве покрепче судят! Ежели такое будем прощать да больно миловать, всю войсковую храбрость порастеряем. Тут надо быть покруче да покрепче. Который казак ничего не сворует, того и судить никто не будет. Доброму казаку страшиться законов нечего. Худому казаку – страшиться их надобно.
Есаул Зыбин сказал:
– То все ладно, братцы, а как нам быть в том, если казак убьет своего казака? Мало ли бывало у нас убийств всяких?
Заспорили. Долго спорили. Один говорил одно, другой – другое. Перебранились.
Гурьян подошел поближе к столу, посмотрел на исписанные чернилами бумаги и четвертушки пергамента и сказал:
– Зря-то вы долго спорили: убийство на Дону должно караться по самой высокой строгости. Допустить убийство – опозорить Дон, опозорить войско, опозорить великую славу нашего братства. Карать таких казаков следует немилосердно, и бог в таком справедливом деле будет помощником нашим судьям. Я стар, – продолжал Гурьян, – прозвище мне дано войском не за мою жестокость, а за мою прямую, верную службу. Вам ведомо: бывает у Гурьяна краюха хлеба – поделится. Бывает зипун лишний – отдаст. Коня добыл у татарина – Гурьян не пожалеет, отдаст коня бесконному. Добуду где деньгу службой праведной – в кармане не держу, поделю ее с тем, у которого нет…
Татаринов внимательно слушал Гурьяна. К чему сведет свое слово свечник?
– Добрый Гурьян, – сказал Черкашенпн, – приятна твоя речь красная, да какова же будет по тому делу судейская, добрая сказка? Подсоби-ка нам. Подсоби. Совет справедливый атаманам, есаулам и казакам нужен.
Гурьян ободрился, расправил горбину и продолжал:
– Ежели свой казак да убьет своего казака до смерти – пиши-ка, Федька, прямо в бумагу, – сказал он есаулу Порошину, – того злодея и убийцу следует безо всякой жалости класть живым под гроб убитого и так едино, вместе засыпать их землею.
– Да ты как будто недурное придумал, – заметил Татаринов. – Таковую статью следовало бы вписать. Для поддержания спокойствия и порядка она дюже годится, порядок станет добрым, крепким.
Гурьян приободрился.
– А еще, – продолжал он, – коль будет у нас торговля беспошлинная, то следует нам вписать законом и такову статью. Ежели лавочники будут продавать товары подороже той цены, которая установлена, то казаки будут грабить их, купцов, брать бочки с вином, разбивать те бочки, товары брать себе, пить вино бесплатно, рухлядь забирать и не быть перед войском Донским в ответе.
– Вписать! – решил Татаринов. – Вписать!
Вписали.
– А еще, – сказал Гурьян, поглядывая на свечи, – дело касаемо до наших баб казачьих, до худых казаков. Надобно, чтоб блудня на Дону извелась совсем во всех городках. Женок примужних, каковы срамом прельщают молодых казаков, каковы наговором всяким живут, расточая беспутные ласки, бить на майдане жестоко плетьми. Блудников и блудниц, а они непременно будут сыскиваться, бить опять же плетьми бесщадно, загодя до пояса, бить их у столба, а имена их, прозвища вписывать следует в особую книгу…
Все засмеялись.
– Придумал! Да то уже давно делается, – сказал Иван Зыбин.
– Делается-то оно делается, да не по закону. А надобно то делать теперь по писаному закону.
Вписали и такую статью.
Гурьян нашел для свода казачьих законов еще одну статью.
– Вот жеребцы наши, ежели дело взять всерьез, ведь все они в дорогой цене, – сказал он. – Везем их издалека, из Аравии, с Булгарии, с Персии, с других стран, а доглядывать жеребцов некому. Поставим пастухами Ваньку, Митрошку, Гаврюшку, Тимошку, а они, доверие наше получивши, жеребцов не гораздо берегут. В ночном попасе похрапывают, завалясь на бок, а жеребцы добрые тонут в затонах, опасных трясинах, камышниках… То разве дело? Жеребца нам содержать дорого. Даем жеребцу лучший корм, чистую воду, светлую конюшню. Пал жеребец – мы везем его на кладбище на телеге крашеной. Кладбище для породистых жеребцов у нас отдельное, огороженное, каждому жеребцу ставим ограду, делаем надпись: каких маток он дал нашему Дону, каких коней, какие атаманы ездили на них, в каких делах те кони бывали, какие сраженья за ними числятся. Для жеребца у нас есть лекарь, знающий дело. Для людей у нас нету лекаря. А для жеребца и зерно потребно купить отборное, и хороним мы их, наилучших жеребцов, с особыми почестями. Держим мы их до старости во внимании. Поим такого жеребца из особых бочек…
– То верно, – заметил Татаринов, – жеребцы разоряют нас. Жеребца мы холим так, как казака не холят. Верно? Занедужит жеребец – мы караулим его недели две, не отойдет ли? Жеребцу-то надобно иметь пятнадцать маток. Он ведь что крымский хан Бегадыр-Гирей. На шестьсот маток надобно иметь сорок лучших жеребцов. Иначе войску худо. Для жеребца – особый луг, особо сочная трава. Верно? А отвечать за жеребца и беречь его порой не можем. И какову же статью вписать нам в закон?
– А такову, – говорит Гурьян. – Утонул жеребец в болоте – смерть пастуху! Утонул в реке – лишить пастуха всего… И смотря каков жеребец был – пастух достоин самой лютой смерти…
– Складно! – сказал Черкашенин.
И еще было положено ежегодно собираться войску в круг, разбиваться на курени, вписывать – которая речка которому куреню достается. Рыбу следует ловить куренями. А который курень залезет в чужую речку – два года тому куреню не лавливать рыбы. Речки делить по жребию.
Гурьян сбил нагар со свечей, сказал еще есаулам и атаманам:
– Отныне пойдут у нас на Дону порядки новые, порядки хорошие, верные. Куда ни кинь – выходит единомыслие. Иные наши полоняники в огонь идут, а у тебя слезы катятся. Иных в кандалы куют – радуешься, что и закандальные служат верно, стойко, без всякой границы любви к своей родине. Иные в полон идут и никогда голов своих не вешают. На таких полоняников глядеть любо. Казаки иной раз щадят врага елико возможно. А сила той любви не простая, а достойная нашей души и сердца. За великое можно отдать все: и жизнь, и счастье. Не тем, так я думаю, жива душа жены мужниной, что она с мужем обвенчана, а тем жива душа жены мужниной, что сердце ее слилось с душой и с сердцем мужа. Велик ли он, казак, мал ли он, знатен ли, не знатен, но коль жена выбрала себе в мужья друга верного, о неверном друге и сказывать нечего, надо любить верного друга, блюсти, хранить, сам бог велит. Хорош вышел у нас закон по бабьему делу. Всем хороши законы! Единомыслие – всегда сила, а коль сердце не подойдет к сердцу – сорную траву пожечь можно запросто, пожжешь дурную траву, а малое время спустя пожнешь молодую. Глубока жизнь – поглубже рек, поглубже океанов!
Гурьян потушил свечи. В длинные и высокие окна замка пробивался утренний свет.
Важное дело было сделано.
Михаил Татаринов стоял у открытого окна, облокотясъ на подоконник. Солнце поднималось не торопясь, огромное, красновато-сизое, оставляя на реке игристую, золотистую, широкую россыпь. Там вдали, в синеватой, просторной, бескрайней донской степи за Азовским морем, оно оживляло зеленые молодые травы, сочный камышник, накаляло прохладный воздух.
Мысли Татаринова бежали далеко… Он думал о том, как народы Кавказа, славянских стран, Молдавии, Валахии, вот уже которые века стонущие под турецким игом, быть может, купцы Албании, Греции, соберутся когда-нибудь в Азове-городе. Сядут они за широкий стол с казаками Дона вольного и поведут беседу без хитрости, без корысти о дружбе. Думал он, как пойдет в Азове-городе большая беседа о житье, о воле, о светлой доле. И следует для того твердой ногой стоять на берегах морей Русского[1] и Азовского.