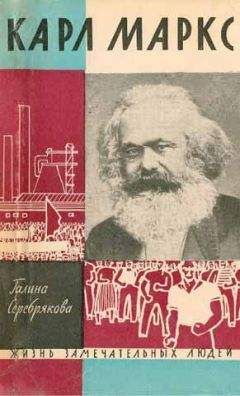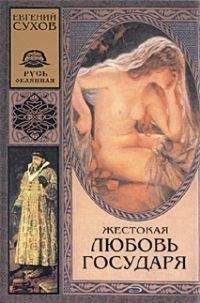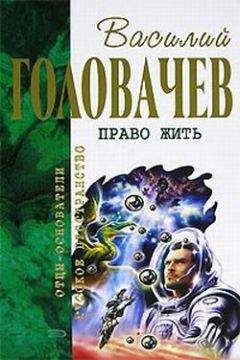Галина Серебрякова - Юность Маркса
2
Фридрих Энгельс-младший к конторе своего отца подъехал на великолепном жеребце. Юноша был безукоризненно сложен, отлично одет, задорно-весел. Старый Джон, несмотря на свою настороженность к людям богатым, залюбовался молодым человеком, когда тот спешился и подошел к дверям дома.
— Сэр, верно, был офицером? — спросил старик, принимая плащ и высокую шляпу Фридриха.
— Как же — солдат! Артиллерист.
Энгельс, шутливо смеясь, выпятил грудь и гусиным шагом промаршировал от стены к стене прихожей.
— Оно и видно, что сэр ходил под барабан.
— Хочешь сказать: «кажетесь болваном»? — засмеялся юноша так звонко, как смеются только очень здоровые люди.
В этот вечер Фридрих Энгельс, против обыкновения, поздно засиделся в конторе. Джон дремал на скамье в прихожей.
Перенимающие всякое техническое новшество, компаньоны «Эрмен и Эпгельс» первыми провели в своей конторе газовое освещение.
Под прозрачным полушаром у самого потолка горел ярко-белый газовый рожок. Свет в изобилии падал на комнату. У старого Джона болели глаза. Он сравнивал немигающий яркий фонарь со стальными ножами, которые оттачивал в Бирмингеме.
Свет горящего газа мешал ему заснуть, покуда неутомимый Фридрих читал и писал в соседней комнате.
Когда забившийся в угол Джон смежил наконец веки и задремал, его разбудило осторожное прикосновение. Рядом стоял хозяйский сын. Он казался смущенным.
— Я разбудил тебя? — сказал он, готовый отойти.
Но Джон вскочил, как вскакивал всегда, заслышав обращение хозяина. К этому раз и навсегда приучили его в детстве. Тщетно пытаться менять привычки в шестьдесят два года.
— Зайди ко мне, старина.
— Но дверь, сэр…
— Запри ее.
— Слушаю, сэр.
Джон поплелся за молодым человеком.
В знакомом кабинете, вещи которого давно наскучили сторожу, — одной из обязанностей Джона было вытирать по утрам пыль со столов и шкафов, — Фридрих предложил старику сесть. Джон растерялся. Он до тонкостей знал здесь каждый стул и кресло, знал, где не смыто чернильное пятно, какая ножка шатается, какая кожаная пуговица готова вот-вот отвалиться. Но он никогда не пользовался этой мебелью. Поэтому нелегко было ему сейчас решиться сесть на стул, за которым он приставлен был ухаживать.
Фридрих но понимал его колебаний и подвинул ему кресло. Затем нажал одну из кнопок глухого шкафа и открыл нижнюю дверцу. Вместо бумаг, вместо денег, книг, — словом, вместо всего того, что предполагал увидеть в шкафу старик, там оказались рюмки и пыльные, крепко закупоренные бутылки.
Фридрих Энгельс достал одну из них и осторожно наполнил два бокала.
Джон отказался от вина, предпочтя ему неразбавленный, жгучий джин. Беседа завязалась.
Фридрих нравился Джону больше всех встречавшихся доныне иноземцев. Они разговорились, как старые приятели. Розовощекий веселоглазый хозяйский сын знал все из того, что казалось Джону его личной тайной. Он знал подробности бирмингемских происшествий, тяжелые перипетии борьбы за хартию. Он знал, как умер Меллор, и говорил о луддитах так, точно сам был в их рядах во время разрушения машин.
Джон растерялся перед его осведомленностью.
Узнав, что старик в раннем детстве был продан на фабрику, Энгельс оживился и, казалось, обрадовался, точно работал некогда с ним вместе, точно встретил земляка.
— Сколько же сэру лет? — не вытерпел Джон.
— Двадцать два.
Они допили бутылку.
— Сэр знает все, точно был одним из нас…
— Я знаю лишь то, о чем говорят документы и еще более того — жизнь. Видишь ли, по-разному можно прожить свой век, когда свободен и богат, но у рабочего, у раба нищеты и эксплуатации, выбор невелик.
Давно отошла полночь, давно спал Манчестер.
Осторожно Фридрих подвел Джона к его прошлому. Старику казалось, что, пятясь, он отступает в темноту, натыкается на что-то, плутает, проваливается в овраги и карабкается снова, но все напрасно. Он не хотел оборачиваться лицом к тому, что осталось в его жизни далеко позади. И воспоминания его были, как блуждания в потемках. Старик хоть и беспокоился, что рассказ его скучен и бессвязен, но не мог остановиться и замолчать, точно в последний раз собирал развеянные ветром времени листы своей жизни. Фридрих слушал, чуть нахмурив красивые брови. Лицо его вовсе не улыбалось.
Для Энгельса не было ничего нового в исповеди старого ткача, ножовщика и сторожа, луддита и чартиста. Это была еще одна проверка того, что́ знал он по синим отчетам фабричных инспекторов, по исповедям других рабочих.
То, чего Джои но умел сказать, Фридрих угадывал и досказывал вслух или про себя.
Джон Смит родился в крестьянской лачуге. Деревня, где жила его семья, состояла из дюжины каменных, глухих, как ласточкины гнезда, хижин. Деревня находилась у въезда в помещичью усадьбу. Владелица имения повелела выстроить зубчатую стену и посадить вдоль нее кустарник и деревья, чтоб крестьянские избы не портили красоты пейзажа. За ограду барской усадьбы деревенских жителей не пускали.
Люлькой Джона было корыто. Одновременно оно служило для кормления двух сивых, всегда несытых свиней. Джон делил его с ними. Горбатая Мери дважды в день вытаскивала стиснутого до синевы вонючим повивальником братца из корыта и наливала туда пойло. Свиньи кормились преимущественно отбросами, за которыми охотились вне дома. Когда они, неудовлетворенно поводя рылами, отходили от корыта, Джон снова возвращался на свое место, и люльку ставили на скамью. Мать боялась, как бы голодные домашние животные, которыми кишмя кишел дом, но съели ребенка. Но когда Джон высвободился из тряпок и научился ползать по земляному полу, свиньи, бараны и гуси стали его лучшими друзьями. Он усвоил их язык, и первыми словами, которые он выговорил, были не «ма-ма» и «дэ-ди», а «хрю» и «мэ». Значительно позже в сознание мальчика вошли двуногие животные — люди. Он долго боялся их и прятался от них. Отец его был молчалив и жалок, когда трезв, и страшен, когда напивался.
Тщетно попытавшись выжать из неплодородной земли не только арендную плату помещице, но и прокорм семье, Джон Смит-старший горько запил. Спьяна он бил жену; жена, обозленная нищетой, била нелюбимую горбатую дочь, а та вымещала обиды на отданных ей под надзор меньших членах семьи. Вокруг Джона жили люди, родившиеся, как и он, чтобы неустанно один на один сражаться с голодом и умирать, проигрывая это, заранее обреченное на неудачу, сражение.
Мир, где жили иначе, был отделен забором, колючим кустарником, высокими деревьями. Джон его не знал.
— Помер бы ты лучше в детстве, чем висеть на наших шеях камнем, — беззлобно говорили ему близкие.
Смерть была благодетельницей обнищалых деревенских домов. Прихода ее ждали. Горбатая Мери завидовала умиравшим сверстницам. О них жалели, говорили с нежностью. Церемония похорон казалась такой величественной. Горбунья повязывала лоб лентой, влезала на стол и закрывала глаза.
— Я покойница, плачь обо мне, — говорила она Джону мечтательно.
Смерть, по-видимому, прекращала ноющее, как рана, чувство голода, первое чувство, которое испытал Джон. На кладбище было красиво, уютно. Сама владелица имения велела посадить на могилах цветы. Она жертвовала также кресты умершим арендаторам.
Не смерть, а рождение нового человека было, по мнению деревни, несчастьем. Женщины плакали над новорожденными. Мужчины били жен по беременным животам.
Когда Джону минуло четыре года, случился неурожай. Родители продали свиней, баранов, гусей. В лачуге стало тихо и просторно, как будто смерть пронеслась над ней. В тщательно заплатанной рубахе, которую надевал в дни крестин и похорон, отец ушел за ограду, в мир, который, как пожар, был страшен деревенским детям. Он робко пробрался в поместье цепных собак, огромных слуг в ливреях, суконных всадников и леди, выезжающих на охоту под вой рога.
Помещица отказалась помочь Джону Смиту-старшему отсрочкой платежей. Это решило судьбу Джона-младшего. После свиней пришла очередь быть проданным и ему. Мать ушла в город. Там, в прокуренной сигарами конторе по найму рабочих, она упала на колени перед человеком в красном бархатном жилете, в белом камзоле и коротеньких черных штанишках. Он отказался купить Джона.
— Нам выгоднее, — сказал он строго, — брать сирот и подкидышей из рабочих домов и приютов.
Крестьянка заплакала, застонала. Принялась целовать холодные пряжки туфель и нитяные чулки на ногах, бугристых и кривых, как оплывшая восковая свеча.
— Сжальтесь, сэр! — умоляла она. — Джон, право, силен и вынослив, как баран. Он послушный, кроткий мальчик. Мы будем все молиться за вас… Ребенок заменит двух мужчин. Господь благословит ваш дом, если вы снимете с нас этот груз!