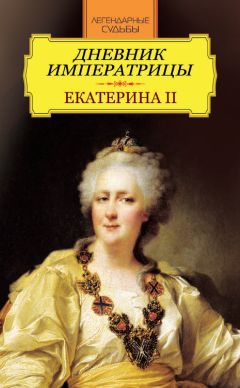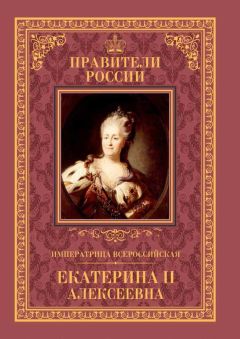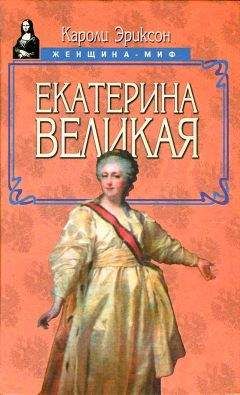Борис Поляков - Кола
Смольков сидел, у костра, вспоминал, смотрел на игру жара в углях, пощупывал под рубахой пояс. Только жемчуг он взял из Колы. Приятны на ощупь его горошины. Маркел все равно раздарил бы жемчуг, а Смолькову тут целое состояние для новой жизни. Не с пустыми теперь руками. А Андрей за неправду пускай потерпит. Сколько Смольков для него старался! А он стал хитрить и предавать дружбу. Давно бы могли уйти, а Андрей отвернул. Девка сманила. Или все-таки Афанасий? На собрании тогда по весне взъярился. Да и в доме с ружьем. Жаль, теперь уж нельзя. Петуха бы ему на двор...
Смольков пооглядывался вокруг на пустынный, будто вымерший, берег. Было однажды с петухом красным.
По осени как-то, в прохладную уже пору попросился он ночевать. Деревня была богатая. Но хозяин за ним приметил: Смольков не набожно крестился перед христовой пищей. Пошел и старосту упредил. Мужики тогда повязали Смолькова сонного. Он плакал, молил пощадить хромоту его, показывал костыли и усохшую будто ногу. А хозяин радости не таил: ему положена трешница серебром за поимку бродяги.
Но Смольков из волости убежал потом. Костыли в руки взял и нырнул в кусты. Провожатые рот раскрыли от изумления. Кричали, ругались между собой. А Смолькову некогда было слушать. Он тропами лесными возвращаться к деревне стал. Озленный был на хозяина. Чутким зверем кружил он возле деревни голодный, в холоде, все высматривал от опушки подходы к дому. Ночью сеном хозяйским дом и двор обложил, подпер дверь колом и все поджег. Горело ярко в ночи. Смольков от опушки смотрел, как стараются потушить, и заламывал лихо шапку. Потом он стал на губах наигрывать и прохаживаться в приплясе. Не чувствуя голода и усталости, скоро перешел в пляс. Он устроил для души праздник. Плясал неистово, яро, долго, как умел еще смолоду.
Смольков потом понял: поджоги опасно делать. Тут ты враг не властям – мужику. И они тогда поднялись в округе. Перекрестки дорог, перевоз через речку, мост – мужики верхами на лошадях, везде с вилами, топорами, собаками. И Смольков от них круто свернул в леса, на север. Без дорог шел в студеную уже пору, обессиленный, маялся животом от ягод, не упомнит, на какой день на раскольничий набрел скит...
А вода прибывала и прибывала, скрывала уже валуны на отмели. Наверно, пора. Маркелова раньшина на плаву. Смольков пооглядывался по сторонам, поднялся, под рубахой перевязал пояс. Он тайком его сшил, удобный. Жемчужинки в нем не трутся, лежат рядками. Теперь Смольков собран. Дорога широкая к кораблю, а вокруг ни души. Маркел, наверное, к Коле уже подходит. И последний раз с берега Смольков посмотрел на город. Он вернется еще туда и походит по Коле вольным. Пусть Андрей позавидует и покается, что остался. И спустился с укоса к раньшине. Днище в ней завалено рыбой, она тухнуть уже начала, но выбрасывать ее теперь некогда, пути не будет. Смольков долго вел раньшину по воде, потом неуклюже в нее забрался, сел, взял тяжелые весла. Он не думал больше о рыбе, мокрых своих ногах, греб и греб и смотрел, как уходит от кормы берег. На нем оставалось прошлое.
При казенном горном заводе с десяти лет гонял на поверхности лошадей. Смышленым рос, его взяли к себе мастеровые. Они ковали шашки для солдат, казаков, изготавливали наручники и замки. Знаменитые по России замки. С ключами, с секретами. И Смольков наловчился их скоро делать. Даже старые мастера не вдруг открывали замки Смолькова. Женился, родился сын. Жил у отца в дому.
В гулевые дни, в праздники обучали на площади умению встречать начальство, шагать. Читали артикулы из устава об обязанностях рядовых, о наказании за побег с завода, за прогулы.
Пришел страшный сорок восьмой. Год большого неурожая. Холера косила людей повсюду. Взяла и его жену. Горе – хоть шею в петлю. И невольно стал беглым.
В сильный дождь ночью сбился, не помня себя, с дороги, и больше недели плутал в лесу. Выйдя из силы, по дню и более оставался на месте, не мог идти. А вернулся когда домой, наказали его за прогулы поркой.
От первых же ста ударов полопалась на спине кожа, обнажилась кровавым мясом. Лечил себя постным маслом и все вспоминал, как на площади говорили: «Служите верой и правдой. Вы – царевы слуги. Начальство поставлено лишь для надзора».
Он потом за обиду подал прошение, минуя свое начальство. Знал, однако, что это запрещено. Писал: «Служил я верой и правдой. Прогулы случайными получились. А наказывали меня в воскресенье, пока шла обедня».
За прошение и дерзость его обрили. «К посрамлению великому и стыду» наказали тюрьмой, на работу водить стали под караулом.
И Смольков надумал сыскать на начальство управу, прошение свое отнести самому царю. Его поймали, пороли, сослали в заводскую каторгу – на рудник. Однако он вскоре бежал, непокорный, хотелось добиться правды.
И снова его поймали, пороли, приговорили к работе «в горе», в цепях. Работа «в горе» – труд каторжный. Освещение – лучина и пакля. Темно, сыро, душно. Породу надо долбить кайлом, потом в корыте тащить ее волоком к стволу шахты. Зимой на работу гоняли из поселковых казарм за много верст. А с весны жили прямо на руднике, под крышей без стены. Кормили непропеченным ржаным хлебом, кашей из тухлой крупы. До лета, Смольков тогда думал, не дотянуть.
Дожил. Кругом стояли нехоженые леса, горы. Жизнь в них казалась ему счастливой, хотя тогда уже знал, что она там похожа на жизнь зверя.
Бежать за весну успел еще раз. Поймали. Солдат опять в два ряда, как прежде, поставили. Ударов было четыреста. Начальство шло рядом, смотрело, чтоб в полную силу били. Заковали крестом: левая нога и правая рука. Важный беглый.
А летом он вывозил породу в отвал. Конвоир отвернулся – и Смольков бежал еще раз. К царю теперь не пошел. Боясь наказания, клейма на лице «С. Б.» (ссыльный беглый), озлобленный, хитрый, черствый душою, с намерением не жалеть чужой крови и жизни, пошел сразу на Север, в глухие места, таежные.
О раскольниках слышал и прежде. На расспросы в ските сказал:
– Православный я, христианин. Но церковь святую не признаю. И нынешнее священство я не приемлю. Не бываю на исповеди и у святого причастия. За это гоним властями.
Он прожил в ските зиму. Отдохнул, отъелся, окреп. Там же встретил он старика. За зиму разговорились. Бывший беглый солдат. Двадцать лет он жил за морями, в Норвегии, в городе Гаммерфесте. Там дворянские привилегии отменены, не бьют. На медных рудниках много беглых русских работает. Живут вольно, в достатке. За умелые руки там хорошие деньги платят.
Смольков зиму расспрашивал, что да как. И не мог для себя понять: отчего старик вздумал идти обратно? почему только песни за морем петь хорошо, а жить надо дома? Он не стал бы уходить, как старик, от хорошей жизни.
И весной, когда взбухли опять на деревьях почки и дороги сулились вот-вот просохнуть, тоска Смолькова совсем захватила. И он пошел.
...Какие тяжелые все же весла! Взмах. Еще взмах. Все дальше и дальше уходит берег. Смольков оглянулся. Уже половина дороги до корабля. Сколько же надо было пройти дорог, прежде чем легла перед ним вот эта, в неволе – его последняя? В Коле жизнь еще сносной была, ничего. А до этого?
Шел он в Архангельск тогда из Мезени, стороны Задвинной. Там от властей секретно немало жило беглых солдат, ссыльных, каторжников, воров. Были там люди пытаные, с клеймом.
И Смольков у них многому научился. Умел язвы на теле своем выращивать и лечить, косить глазом, задубить руку, ногу. Не моргнув, пустить слезы обильные, показать горе. В падучей мог биться с закатанными глазами. Страсть имел к мандолине, играть мог часами, не уставая. Песни бродяжьи выучил, новые, все о воле. Лихо пел их.
И ему, бывалому, битому, Андрей в тюрьме показался совсем младенцем. И захотелось его с собою позвать. Он силой при случае защитит. И на слове не подведет. Верным станет, как пес. Только надо его натаскать, повязать крепко на каком-нибудь верном деле.
И ухаживал за Андреем, подкармливал его хлебом, учил, какой вид принимать на допросах, каяться, на других как валить и просить искупления любой ценой. «Жаль, Андрюха свернул. Вдвоем все-таки лучше. Тогда славно в Архангельске всех надули...»
И услышал шум, оглянулся.
На борту корабля толпились одетые в форму люди, манили к себе руками и что-то ему кричали. Смольков стал оглядываться и тоже кричать и маячить, что хочет к ним. В суете не хватало для весел сил, и раньшина будто совсем не шла. Высоко на борту галдели на чужом языке, но было понятно, что звали его к себе. Потом сверху бросили лестницу из веревок. Она, раскатываясь, летела к воде, к нему.
У Смолькова взыграло сердце. Никогда его прежде не звали так, не протягивали спасительную надежду. И уж он постарается за такую щедрость, не останется он в долгу. А раньшина, будто ему назло, неуклюже тыкалась в борт корабля, все в стороне от лестницы. Смольков бросил весла и стал пробираться к носу по скользкой рыбе. У костра не сидеть бы, а выбросить ее надо было. И поймал, наконец, необычную лестницу, в ее зыбкости почувствовал ненадежность – и растерянно глянул вверх. Люди с высоты борта подбадривали его, зазывно манили руками. А он будто оторопел. Сознавая, что не вернется в шняку, бросил все-таки ее якорь и попробовал снова лестницу. С замиранием сердца повис над водой у борта. Это была не лучшая из пройденных им дорог. От боязни вспотели руки. И, хватаясь судорожно за перекладины, он страшился посмотреть вниз.