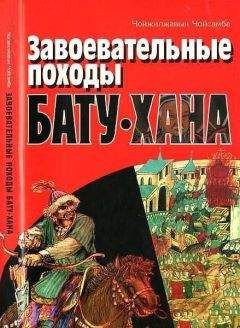Лев Никулин - России верные сыны
— Не понимаю тебя, голубчик, — сказал на это Данилевский, — ты был в штабе его величества на виду, потом для чего-то остался в Лондоне, потом согласился отправиться в Копенгаген, когда тебе надо было быть в Петербурге. Теперь ты приехал в Вену, — это хорошо, император здесь особенно ценит молодых людей, просвещенных и учтивых… А ты норовишь в отставку… Правда, теперь ты богат…
— Мне скоро тридцать, — ответил Можайский, — я послужил отечеству, две раны тому свидетельство… — Вздохнул и добавил: — Скоро два года я не был на родине… Как сорванный лист, гнала меня буря по Европе. И для чего?
Данилевский с чуть заметным удивлением поглядел на приятеля. Можно ли жаловаться на судьбу, когда человеку привалило счастье — наследство от тетушки? Но, приметив, что Можайский не склонен толковать на эту тему, он заговорил о венских делах:
— Жизнь приятная, но утомительная…
Он показал расписание на неделю, и Можайский с легким удивлением читал список предстоящих балов, придворных спектаклей в Бург-театре, ночных празднеств и раутов.
Тем временем Данилевский рассказывал о великокняжеских причудах Константина Павловича, о Чарторыйском, которого все же ввели во временный совет Польши, о тонком вкусе Меттерниха, который все свое время отдает репетициям празднеств и аллегорических балетов… Приехал старая лиса Талейран и встречен холодно и неуважительно, — впрочем, чего же может ожидать этот господин…
— Ты приехал кстати: Вена ожидает празднества в честь годовщины Лейпцигской победы. У Андрея Кирилловича Разумовского будет дан бал, который обещает затмить все доселе виденное…
— Ему бы следовало думать о другом, — вскользь сказал Можайский и, встретив удивленный взгляд Данилевского, добавил: — Он ведь единственный русский среди уполномоченных России! Впрочем, сам-то кто он, Разумовский? Онемеченный русский вельможа. Чем гордится! Именем его названы венская улица и мост, построенный на его же деньги. Благодетельствуй русским городам, коли есть охота и денег куры не клюют!.. Воронцов — тот хоть ищет доброй памяти у потомков, а этот чего ищет? «Эрцгерцог Андреас!» Внук малороссийского казака искательствует у австрийской знати! Русский уполномоченный! Да он и по-русски забыл говорить, я чаю!
Данилевский покосился на дверь и только пожал плечами. Потом, наклонившись к Можайскому, сказал чуть слышно:
— Не бережешь ты себя, Саша. Здесь всюду шпионство, всюду наушники… Эх вы, молодежь…
С перепугу он даже забыл, что Можайский был на год старше его.
45
Придворная французская модная карета с низкими козлами, небольшими передними колесами и лакеями на запятках миновала колоннаду Гофбургского дворца, выехала на площадь и, обогнув монумент Евгения Савойского, остановилась у подъезда. Русские гвардейцы отдали честь, лакеи отворили дверцы кареты. Из кареты высунулся костыль; опираясь на плечо лакея, из кареты вылез грузный старый человек с пудреными волосами и с трудом проковылял до дверей. Он окинул взглядом фасад дворца из дикого камня, статуи воинов и святых в нишах, бронзовые оконные решетки, за которыми тускло мерцали стекла.
Переложив костыль в правую руку, старый человек прошел мимо австрийских дворцовых гренадер, мимо лакеев, глядевших на него без трепета и почтительности — так, как глядят на разорившегося гостя, которого, по старой памяти, еще принимают в доме. Но гость посмотрел на них таким презрительным взглядом, что они тут же отвесили низкие поклоны.
Флигель-адъютант, молодой русский полковник, встретил его на площадке лестницы. Он с некоторым любопытством поглядывал на гостя, пока шел впереди, показывая дорогу.
Князь Талейран, уполномоченный Франции на конгрессе, никогда не любил Гофбургского дворца: мрачное здание с низкими залами, темными переходами и лестницами напоминало ему гробницу, королевскую усыпальницу. Он тяжело опустился в кресло и, оглядевшись, чуть поморщился. Его заставляли ждать… Первые дни будут нелегкими днями, он это знал.
Уполномоченный побежденной державы, которому никто не верил — ни союзники, ни король Людовик XVIII, человек, которого бешено ненавидели придворные короля, а газеты называли взяточником, не мог рассчитывать на ласковый прием в Вене.
То, что русский император не выразил желания его увидеть и ему самому пришлось просить аудиенции, все же было неожиданно. Его принимали здесь как посланника третьестепенной державы.
Еще в Париже решено было искать милостей у Александра, попытаться опереться на Россию. Но можно ли верить королю? Может быть, за спиной у своего уполномоченного старый интриган будет искать сближения с Австрией или пустит в ход свои английские связи? И тогда Талейрана вышвырнут, как ветошь, и, пожалуй, еще обвинят в том, что он продался Александру.
Острый ум Талейрана, предназначенный для того, чтобы плести сложную интригу, вернее — чтобы разом плести несколько сложных интриг, пока еще дремал. Скоро десять дней, как Талейран в Вене. Что сделано? Он выгнал нескольких лакеев, которых подозревал в связях с австрийской тайной полицией, приказал поставить шпионам несколько ловушек: разбросать изорванные клочки бумаги, исписанные его рукой, и проследить, кто их подберет. Потом велел переменить замки во всех бюро и у столов. Впрочем, помня любознательность здешних шпионов, об этом позаботились и в других посольствах.
Сегодня первый настоящий трудный день…
Как бы в ответ на его мысли послышался звон шпор, белая пухлая рука отодвинула драпировку. Вошел Александр. Драпировка снова шевельнулась, и в зал проскользнул маленький человечек в бархатном зеленом мундирчике. Это явление было неприятно Талейрану, — вошел Нессельроде.
Талейран не любил тревожить себя неприятными воспоминаниями.
То, что происходило в Париже между ним и Нессельроде, когда Наполеон был императором, можно было поставить в заслугу Талейрану. Правда, за сведения, которые Талейран поставлял Нессельроде, он получал деньги, но, в конце концов, он был полезен… Талейран встал, опираясь на костыль, и низко склонил голову перед Александром. Александр уехал из Парижа, не простившись с ним, но надо забыть обо всех размолвках, забыть для пользы дела.
На всякий случай Талейран сделал вид, что взволнован холодностью императора, и глубоко вздохнул.
Александр заговорил с ним отрывисто и даже резко. Это было не похоже на прежние их беседы, когда между льстивыми комплиментами, на которые был падок царь, можно было незаметно, но твердо внушить Александру свои мысли, выдав их за его собственные. Александр только задавал вопросы и нетерпеливо ждал ответа.
— Прежде всего: положение в вашей стране?
— Так хорошо, как этого только ваше величество может желать.
— Настроение общества?
— Оно становится лучше день ото дня.
«Допрашивает, как хозяин управителя», — подумал Талейран. Нет, он не ожидал такого приема.
— Либеральные идеи?
— Нигде не проявлено столько либерализма, сколько во Франции.
Русский царь, самодержавный властелин, разумеется, не желал распространения либеральных идей во Франции. Дело было не в либеральных идеях, о которых будто бы заботился царь, а в опасности новой революции. Надо было в начале реставрации кое-что дать народу Франции, чтобы предотвратить взрыв народного гнева.
— Но… свобода печати? — с сомнением спросил Александр.
— Она восстановлена. Есть некоторые ограничения… года через два-три они перестанут действовать.
Александр хорошо знал, что даже эта самая скромная свобода печати досаждала Талейрану, привыкшему к безмолвию печати во времена Наполеона. Потому он и спросил о свободе печати.
Потом Александр спросил об армии.
— Она вся за короля… Сто тридцать тысяч под знаменами, и по первому призыву можно собрать еще триста тысяч.
И это тоже была ложь. «Хочет доказать, что Франция еще сильна…» В то, что армия за короля, Александр тоже не верил.
Он спросил о маршалах, служивших Наполеону, об оппозиции, но, даже не выслушав ответа, положил нога на ногу и сказал, глядя в сторону:
— Теперь поговорим о наших делах, — он сделал ударение на слове «наших». — Их надо кончить здесь.
— От вашего величества зависит, чтобы дела были кончены мирно и благоприятно для всех… если ваше величество проявит столько же величия души, как вы явили в делах Франции.
Александр оглянулся на Нессельроде и чуть сощурил глаза. Это была «улыбка глаз», которую знал Талейран. Александру очень хотелось сказать, что ни Людовик, ни Талейран не заслужили великодушия. Он мог бы сказать еще и то, что побежденной Франции, в сущности, нет никакого дела до того, как будут решены судьбы остальной Европы. Однако он только сказал:
— Нужно, чтобы каждый получил то, что ему полагается.
![Дмитрий Виконтов - Родиться в Вифлееме [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)