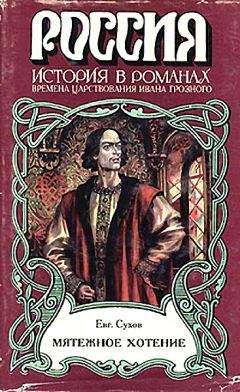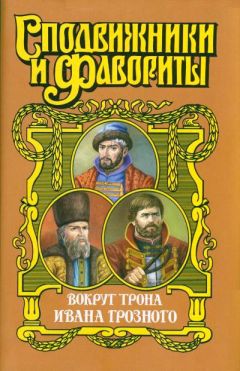Всеволод Иванов - Черные люди
Постояв, воевода качнулся, двинулся вперед, перед ним вся лесная семья упала на колени. Воевода пьяно улыбнулся, дошел до печки, взялся рукой за голбец — бабы ахнули, закрыли лица руками: так делают только женихи.
А воевода шел к Анне.
— Поздорову ли, красавица? — хрипло спросил он, хватая ее за руку и подымая с колен. — Помнишь ты меня?
Анна отвернулась, белым рукавом закрывая лицо. Степенно поднялся с колен ее отец, стал с нею рядом.
— Боярин! — говорил он. — Не обессудь, присядь к столу, пожалуй нас! Отведай нашего крестьянского пива! Анна, что ж стоишь? Нацеди пива боярину! Поднеси!
Воевода отпустил ее руку, та выметнулась в дверь, сел к столу, распахнул шубу, достал из шапки платок, вытер лицо.
— Слышь, отец, — остановил он суетившегося Якова Софроновича, — погоди. Я к тебе сватом. У тебя товар, у меня купец. По рукам, что ли?
— Неладно, боярин! Товар-то запродан.
— Кто покупает?
— Босой! Тихон!
— Из Устюга?
— Он!
Воевода захохотал натужно, в черном мехе бороды показались желтые зубы.
— Моей цены вам Тишка не даст! — сказал воевода. — Я сам купец! Я твою дочь беру в жены. Будет боярыней. Княгиней!
Полотном побелела Аньша, подходившая к столу, сомлела, села на пол с липовым жбаном в руках, залилась слезами. Завопили бы и другие, да не смели.
Воевода вскочил, держа левую руку на рукояти сабли, топнул ногой, стоял, большой, наклонив голову, ощерясь, один среди смирного стада, оробевшего так, что и метаться не смело. Кто против него, царского слуги, за спиной которого семь молодцов в цветных кафтанах? Кто против него, ежели он от царя?
— Анна! — заговорил воевода, наклонившись над плачущей девушкой. — Недосуг мне. Пойдешь за меня волей? Будешь жить в палатах. Спать на пуху. Есть-пить на золоте и серебре. Сенные девки будут служить тебе. Я богат. У тебя все будет богато, по-княжески — только ты полюби меня душой, старого вдовца.
Все молчали, Анна тихо рыдала.
— Дашь любовь — я дам тебе все, чего захочешь! — говорил князь. — Говори: идешь либо нет?
— Обещалась я! — заливаясь слезами, вымолвила наконец Анна. — Он обещал увезти меня отсюда о Покрове.
— Покров прошел — нет твоего молодца. Ин не хочешь добром, будет по-моему. Томила! Нечай! Ковер сюда! Берите княгиню. Заверните и несите бережно в лодью.
Цветные кафтаны метнулись к Анне, на грех лучина, догорев, погасла, жалобные крики, плач неслись в темноте.
— Эй, огня! — гремел воевода. — Люди! Измена!
Вся дрожа, тетка Аксинья вздувала огонь в загнетке печи. Лучина вновь запылала. Анну в персидском ковре княжьи люди, толкаясь меж собой, выносили в сени, воевода обеими руками насаживал на голову шапку с каменьем.
— Жить будет она у меня в Холмогорах, — объявил он и хлопнул ладонью по сабле. — А вы — цыц! — прикрикнул он на повалившуюся на колени, жалобно воющую семью. — Не хороните, чай. Я вам теперь и зять, опора, оборона. Будете вопить дуром — батоги, а то и похуже.
Круглый месяц плыл высоко в темном небе, золотая дорога от него дрожала поперек черной Двины, когда насад воеводы, отвалив от берега, быстро пошел против течения. Молодцы гребли крепко, ладно. Воевода сидел на корме, обняв завернутую в ковер Анну, ухмыляясь белой от месяца ухмылкой. А на берегу стояла вся Сёмжа, вопила, плакала.
Тихон побывал в Сёмже на пути в Великий Устюг двумя днями позже после похищения Анны, все изведал от потрясенной семьи. И, рассказав о своей обиде старице Ульяне, он сидел перед ней как приговоренный.
Старица выпрямилась, блеснула глазами.
— Московские воеводы нашу старую вольность вконец извели, верно! — медленно выговорила она. — Воеводы, царские слуги, лезут в царевы товарищи. А что народ говорит? У царя да у нищего товарищев нету! Своевольничают воеводы царевым именем, как волки грызут народ. Грабят! Обижают! Совести нет у людей, бога забыли, тешат только себя!
— Бабенька, что ж делать буду? — шептал Тихон, хватая своей восковую руку старухи. — Дела батюшкины я справил, много товару привез — и рыбу, и меха, и рыбий зуб, и ворвань. Думал — оженюсь, буду работать больше, мирно да ладно. Обида жжет мне душу. Заснуть не могу! Есть не могу! Анна так и стоит передо мною, руки ко мне тянет: «Спаси! Спаси!» А что я могу? Утащил черный ворон белую голубку…
Старуха в ответ молчала, перебирала четки. Вот тебе и небесная тишина в монастыре. Звала, искала она, Улита Босая, вековечную правду, ан вот перед нею ее любимый мизинный внук в таком горе. Большой да могутный, плачет, как малое дитя. Почему Тихону нет удачи? Что делать в такую минуту? У него гневом закипает сердце, а гнев — грех. Старица хорошо знает, какие помыслы губят человека — ну, обольщение, похоть, жадность, гнев, тщеславие, гордость, печаль, уныние. А что сказать внуку?
— Тиша, — говорит она со слезами на глазах, — внучек! Что скажу? Одно верю — рано ли, поздно ли, а получат грешники достойно по делам их. Но ты-то сам не греши, Тиша! Не гневайся! Не печалься! Тиша, ищи правду! Терпи! Слушай, терпи…
Тихон слушал, свесив голову, опустив руки.
На дворе хлопнула калитка, послышались голоса, залаяли собаки. Тихон приник к окну.
— Никак батюшка! — воскликнул он. — Батюшка и есть! С кем это он? Или дядя Кирила? Я уж пойду, бабенька!
Бросился в сени, загремел на лестнице.
В сумерках к крыльцу быстро шла кучка людей, впереди двое в меховых шапках, в синих однорядках, подхваченных красными кушаками. Первый сутуловат, широкоплеч, шагал стремительно, подавшись вперед, выдвинув вперед крутой подбородок в редкой седеющей бороде. Даже в сумерках было заметно, что смотрит он остро, что глаза глубоко запали, что борода клином вперед. А Кирила Васильич был повыше, поуже в плечах, черноус, чернобород, медлительнее в повадке.
— Батюшка! Дядя Кирила! — Тихон встретил отца и дядю перед лестницей и отдал поясной поклон родичам.
— Тихон, поздорову ль? — бросил ему отец, обнимая его. — Ну, пришел, слава богу… А то приехал, да с берегу глаз не кажет.
— Еще бы! — заговорил задорный голос брата Кузьмы. — Еще бы! С горя-то и медведь в лес уходит. Вон и брат то же говорит.
Тихон оглянул кучку, что стояла вокруг Босых. Братья Кузьма, Павел стояли тут же, среди приказчиков, улыбались ему добро.
— Не кручинься, Тишка, выручим! — говорил Кузьма. — Ей-бо!
Дядя Кирила обнял Тихона.
— Думать надо, чего делать! — сказал он. — Не горячись! С маху ничего делать нельзя.
— Ладно, сынок, что дядя подъехал! — сказал Василий Васильич. — Все знаем! Будем совет держать! Да идем в избу! Мовня-то[25], должно, готова.
— Батюшка! — вопила подбежавшая Марьянка. — Дядечка! — металась от одного к другому.
— Ладно, ладно, мизинная! — говорил отец, похлопывая ее по спине. — В одном сарафанишке! Идем в избу, простынешь. Ишь, косу-то снегом завалило.
Почитай, всю свою жизнь как костер горел своим делом Василий Босой. Дело осаждало его со всех сторон. Сейчас, идучи домой по улице, он думал о приказчике своем Федоре Подшивалове — как-то он там, на осенней Лене-реке? Далеко до Лены, а казался Федор Василию Васильевичу вот тут, рядом, ну, идет с ним… В лобастой голове своей он все время держал десятки, сотни людей, всех помнил.
Его живая, стремительная душа не сидела в Устюге, она далеко шагала туда, за Каменный Пояс, за Урал. В Сибирь… Чащобные там, незнаемые лесные реки, неведомые племена… Это не дома, не на полатях. Люди, везде люди, с которыми можно работать… А как трудно бывало спервоначалу! Сколько нужно было ловкости, терпения, ума!
Василию Васильевичу, в молодости забиравшемуся со своим товаром на лодках в суровые дебри, не раз приходилось оставлять привезенное добро безвестно на видном месте на берегу, а самому уезжать, чтобы, вернувшись через три дня, видеть, что вместо исчезнувшего лежит добрая грудка пушнины, — так недоверчивы бывали к пришельцам сибирские народцы. Трудно было завязывать с ними связи, приучать к торговле, к обмену. Как-то пробирался он, Василий Босой, на северной реке, подплыл к укрытому вековой сосновой рощей мольбищу, где тысяча одетых в звериные шкуры людей бешено плясала, кружилась между скалами перед двумя каменными идолами — мужским и женским, каждый с семью, одно над другим, скуластыми лицами, среди сотен навороченных черных острых камней, среди куч белых медвежьих, оленьих черепов.
Медленно подплывал под огромным парусом дощаник, и вдруг люди остервенело бросились к берегу, размахивая дубинами, меча каменья, а Василий Васильевич, встав на борту, сняв шапку и низко кланяясь, стал издали показывать темным этим людям привезенные такие удобные, такие дорогие вещи — блестящие ножи, топоры, медные котелки, халаты, яркую крашенину, синие и красные бусы, бисер — все, что могло сделать их жизнь красивее, легче.