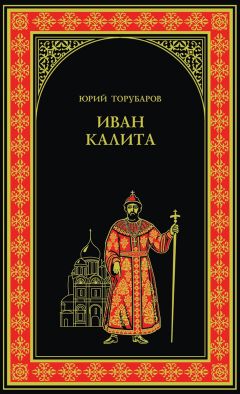Максим Ююкин - Иван Калита
Будто не замечая его, Воробей молча подошел к постели и, склонившись над больной, взял ее за запястье, пощупал пульс. Лицо ведуна омрачилось. Затем он приложил ладонь ко лбу боярыни, раздвинул ей зрачок — спящая издала тихий стон и слегка пошевелилась, точно от дурного сна, — и, выпрямившись, резко бросил:
— Котел, воды ключевой вдосталь, ковш с ручкой и дрова. Да чтобы не входил никто!
Его приказание было исполнено с лихорадочной поспешностью. Всю ночь и весь следующий день Терентий не находил себе места от мучительной тревоги. Он то молился, то ходил из угла в угол, ломая скрещенные пальцы, то звал кого-нибудь из слуг, а когда тот являлся на зов, раздраженно велел оставить его одного. Наконец две бессонные ночи и пережитые волнения взяли свое, и измученный боярин заснул прямо на полу молельной, подложив под голову свернутый бумажный кафтан.
Утром Терентия Абрамовича разбудил один из холопов, которым он велел неотлучно находиться у двери опочивальни и исполнять любые приказания Воробья, если таковые последуют.
— Скорее, боярин, скорее, ведун тебя кличет!
Терентий входил в опочивальню с таким чувством, горое, вероятно, испытывает подсудимый перед произнесением ему приговора. Но едва он переступил порог, его радостно встрепенувшееся сердце едва не пробило грудную клетку, как порок пробивает крепостную стену: первое, что он увидел, была обращенная к нему улыбка жены, еще слабая, жалкая, несущая на себе след недавно перенесенных страданий, но в то же время излучающая победное сияние возрождающейся жизни. Боярыня была бледна, под глазами притаились глубокие черные тени, но прояснившийся взгляд говорил о том, что болезнь отступила. Не произнеся ни единого слова, издав странный приглушенный звук, похожий одновременно и на смех, и на рыдание, Терентий бросился перед ложем на колени и долго покрывал поцелуями руки, лицо, плечи той, ко-торая, оказавшись на самой кромке земного существования, теперь снова возвращалась к нему. Потом медленно подошел к Воробью, невозмутимо складывавшему привезенные им с собой травы обратно в мешок.
— Мой долг перед тобою не измерить никакою мерою. Но все же: чем я могу вознаградить тебя?
Ведун поднял на Терентия хитро прищуренные глаза, в которых не было заметно и тени усталости.
— Счастливица твоя боярыня: кабы ты промедлил еще хоть чуток али холоп твой дома меня не застал, никто бы ей уже не помог. Что же до награды... Угостил бы для начала обедом, а то по твоей милости я, почитай, два дни маковой росинки во рту не держал.
После того как хозяин и гость воздали должное трапезе (надо ли говорить, что в тот раз к столу было подано лучшее, что нашлось в боярских клетях и на скотном дворе!), Терентий пригласил Воробья следовать за ним. Длинными извилистыми переходами боярин провел своего гостя в светлицу, находившуюся в самой отдаленной части дома; пропустив ведуна вперед, Терентий запер за собой дверь и, взяв со стола подсвечник, зажег от лампады все три вставленные в него свечи. Затем он подошел к огромному шерстяному ковру, украшавшему одну из стен, и приподнял его за угол. Позади ковра оказалась дверь, настолько маленькая, что для того, чтобы войти в нее, человеку среднего роста пришлось бы согнуться едва ли не вдвое. Открыв эту дверь ключом, висевшим у него на шее, отдельно от прочих, болтавшихся в связке на поясе, Терентий с загадочной улыбкой поманил гостя рукой и, скрючившись в три погибели, как жнец, подрезающий колосья, вошел внутрь. Чуть поколебавшись, Воробей последовал за ним. Мужчины очутились в крошечной горенке без окон, единственную обстановку которой составлял большой ларь; судя по необыкновенно тонкому, изощренному узору его оковки, ларю было по меньшей мере около сотни лет: после Батыева разгрома на Руси нелегко было найти кузнеца, способного на столь искусную работу, — лучшие мастера либо погибли, либо были угнаны в Орду.
Здесь боярин снова воспользовался ключом — на этот раз место, где Терентий изволил хранить его, осталось Воробью неведомым, ибо когда он протиснулся в каморку, тот уже держал ключ в руке — и, с глухим стуком откинув тяжелую крышку, с выражением гордости и восхищения на лице опустился на колени и погрузил руки в груды золотых и серебряных монет, наполнявших почти до краев два разделенных дощатой стенкой отделения; третье отделение было отдано драгоценным камням и украшениям. Зачерпнув полные пригоршни монет, боярин поднес ладони к лицу и несколько мгновений жадно разглядывал лежавшие на них маленькие блестящие кругляши; затем медленно, словно нехотя, наклонил ладони, и звенящий металлический дождь двумя непересекающимися струйками тяжко истек в свое потаенное лоно. Тщательно выбрав монеты, случайно попавшие не в свое отделение, Терентий бережно водворил их на место и лишь тогда, не забыв с нежностью, точно поглаживая, провести рукой по переливающемуся разноцветными огнями содержимому третьего отсека ларя, обратил к Воробью улыбающееся, раскрасневшееся от удовольствия лицо.
— Доднесь ни одна живая душа о сей горенке не ведала, — доверительно понизив голос, молвил он. — Из рода в род, от отца к старейшему сыну сия тайна передается. Здесь все наше богатство, за столетия скопленное, и без ложной скромности могу сказать, что достояние предков своих я не токмо сберег, но и изрядно приумножил. Не думал я, что когда-нибудь отворю перед кем-либо сей ларь, а перед тобой вот отворил и говорю: бери, друже Воробей, сколько унести сможешь: боярина Терентия свиньей неблагодарной еще никто не кликал!
Но Воробей лишь покачал головой, всем своим ви дом изъявляя полнейшее равнодушие; в полумраке скудно освещенной каморки боярин не мог видеть, как вспыхнули глаза ведуна, едва он откинул крышку ларя, как неотрывно впились они в представшие перед ними сокровища.
— На что мне золото да серебро? Я ведь в лесу живу; соседи мои — медведи да лоси — навряд ли его в оплату примут. Всю жизнь обхожусь тем, чем мужички от скудости своей благодарят: сала там кусок, холста отрез — вот моя обычная мзда. А к богатству мне привыкать уж поздно, сберегать же его не для кого. Есть у тебя кое-что иное...
— Да назови токмо, а слово мое крепко! — воскликнул боярин, в глубине души несказанно обрадованный отказом ведуна.
— Отдай мне ту девку, что в опочивальню меня провела, а боле мне ничего от тебя не надобно.
— Иришку? — боярин в изумлении посмотрел на Воробья; слова ведуна привели его в явное замешательство, которое тот истолковал по-своему.
— Нет, ты не думай, я не о том, чтоб ты ее на меня записал, — поспешил заверить он Терентия. — Я и сам хрестьянского званья, мне холопями володеть невместно. По закону она как была твоей, так и останется; пущай лишь живет у меня да во всем будет мне послушна — с меня того довольно.
— Да не о том речь, — смущенно сказал боярин. — Я, конечно, над своей холопкой волен, но... Больно уж не по-хрестьянски это, не по-людски! Я и сам-то с дворовыми девками лишь смолоду баловал, а уж чтобы так... Может, взял бы лучше серебро? — почти просительно посмотрел Терентий на ведуна. — Мошна-то моя от того полегчает дюжее, да уж зато и на душу груз не ляжет.
— Помни: ты слово дал, — жестко ответил Воробей. Терентий вздохнул.
— Оно-то, конечно, так; коли обещал, слово держать надобно. Только сделать это не так просто. Брат у нее есть — это он привез тебя сюда. С сестрой они с младенчества не разлей вода: знамое дело, сироты, окромя друг дружки ни одной родной души на свете. Кто знает, что он может выкинуть?
— Так избавься от него! — с досадой на недогадливость своего собеседника воскликнул Воробей.
— Да, да, избавиться... конечно... — рассеянно произнес боярин. — Вот что: ты пока ступай отпочни, для тебя и горница приготовлена, а я уж что-нибудь примыслю.
4
До поздней ночи боярин сидел один в своей светлице, подперев скулы руками и глядя, как неясные тени от лампады беспокойно ерзают по стенам, будто пытаясь преодолеть некую преграду, отделяющую их от вещного мира, куда они страстно и безуспешно стремятся. На душе у Терентия было скверно. Он всегда был суров с подвластными ему людьми, не видя в том ничего предосудительного: осуществляя свою власть над холопами, он лишь исполнял божью волю и пользовался своим неотъемлемым правом. Но никогда боярин не преступал в обращении с черным людом законы, установленные богом и людьми; ни разу в своей жизни не осквернил он своей боярской чести каким-либо недостойным, низменным поступком (по крайней мере, так он предпочитал думать). Вот и сейчас все в душе Терентия противилось тому, чтобы удовлетворить нечестивое желание ведуна; разум же нашептывал иное. Вправе ли он отказать тому, кто спас от неминуемой, казалось, смерти его юную жену, усладу его кренящейся на исход жизни? «Куда ни кинь, всюду клин, — угрюмо думал Терентий. — Что сдержать слово, что нет — все одно поруха для чести. Ох, проклятый Воробей, ну и головоломку же ты мне задал!» Но тут же утешительная мысль, как всегда готовая к услугам служанка, торопливо накинула на неприглядную действительность наспех состряпанный наряд благопристойности: «А чего я, собственно, маюсь? Я-то даю ему девку для подмоги в хозяйстве, ни для чего иного, и ежели он сотворит с ней какое непотребство, я за то не в ответе». «Кого ты замыслил обмануть? — пытался противиться слабеющий голос совести. — Кто ж поверит, что ты столь глуп, что не смекнул, для чего она ему спонадобилась? Как ни крути, а грех сей на тебе будет. Не перед людским, так перед божьим судом ответишь!» Тогда в дело вмешался суеверный страх: а ну как ведун, почтя себя обиженным, наведет на боярский дом порчу? Силу свою он уже показал. Нет, боярин, нельзя, чтобы Воробей покинул твой дом, затаив злобу! Придется тебе уважить его просьбу. Еще раз тяжело вздохнув, Терентий придвинул к себе лист пергамента и, обмакнув гусиное перо в чернильницу, заскрипел им по белой глади.