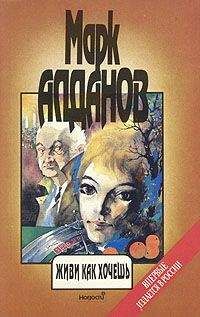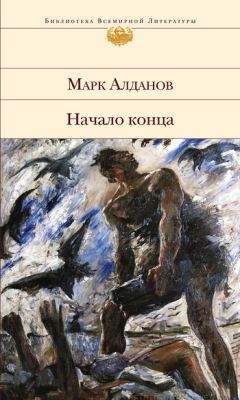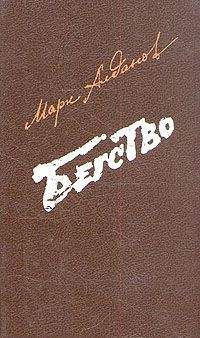Назир Зафаров - Новруз
Оно появилось, когда обед наконец закончился и мать подала чай. Отец сказал:
— Оказывается, открыли новую школу.
Матушка приняла это как событие не слишком важное.
— На все воля всевышнего.
Отец покачал головой.
— В том-то и дело, что это не воля всевышнего. Люди говорят, что это воля дьявола. Без бога будут в ней учиться дети.
Матушка не поверила. Не могло быть школы без бога. Ведь дети учатся по корану.
— Кто же пойдет в такую школу? — спросила она.
Отец помолчал, потрогал усы, усмехнулся: видно, его самого потешала затея с повои школой. А может, не затея потешала, а то, чем обернется она для нашей семьи.
— Такие, как наш Назиркул.
Матушка испуганно открыла глаза.
— Не шутите отец!
— Не шучу, ташкентская. Ко мне приходили Джайнак-ака и мулла Хатам и просили согласия записать Назиркула в новую школу.
— Ван! — вскрикнула матушка. — Неужели вы дали согласие?
Столько горечи и боли было в этом возгласе, что отец растерялся. Ему затея с новой школой казалась не очень серьезной, поэтому он шутливо обо всем и рассказывал. А тут вдруг отчаяние, даже ужас.
— Ну, ну, ташкентская, не принимай слишком близко к сердцу сказанное. Насчет дьявола, я думаю, люди ошиблись. Кто разрешит дьяволу устраивать школу? Да и мулла Хатам и Джайнак-ака, как ты знаешь, не общаются с потусторонней силой. Даже наоборот…
— Не мучьте, отец! — взмолилась матушка. — Дали вы согласие или нет?
Прижатый к стене, отец опустил виновато голову.
— Дал.
— Лучше бы мне не родиться на этом свете! — запричитала матушка. — Лучше бы я…
— Э-э, ташкентская, — стал сердиться отец, — ты же сама хотела сделать из Назиркула образованного человека, ты же водила его к отинбуви и мулле Миртажангу. Говорила: мясо ваше, кости наши… Мясо-то этот злодей Миртажанг чуть не снял с Назиркула.
— Что вспоминать прошлое? — продолжала стенать матушка. — Прошлое минуло…
— Вот, вот… И пусть оно сгинет. Но учение-то тебе по сердцу. Назиркула будут учить настоящие учителя.
Отец остановился. Был он взволнован, решимость горе на в нем. Что-то еще он хотел сказать, но сдержал себя. Что-то важное, главное.
Матушка это поняла и смолкла, ожидая.
— Домля Хатам обещал сделать из Назиркула учителя, — открыл наконец главное отец. — Понимаешь, ташкентская, — учителя!
Я вздрогнул. Неожиданно прозвучали для меня эти слова, сказанные отцом. Ничего в них особенного не было. Для других, которым моя судьба безразлична, они как ветер. Что он оставляет? Шум травы и только. А для меня — боль, радостную боль сердца.
То же почувствовала и матушка. Не могла не чувствовать. Это она передала мне мечту о школе. Но страх еще не оставил ее.
— Что же это так вдруг… — сказала она.
— Не вдруг… Советская власть обещала открыть школы, вот и открыла.
— Сколько платить надо этому домле Хатаму? — поинтересовалась практической стороной дела матушка.
— А ничего. Власть платит учителю, с учеников не берут.
— Даже лепешки?
— Эх, ташкентская! Если ничего, значит, ничего…
— Странная школа, — вздохнула матушка. — И без денег, и без бога.
— Так мир устроен, — воспользовался отец случаем, чтобы порассуждать о боге. В противоположность матушке он относился к богу, особенно к его слугам, без достаточного почтения. Посещение мечети было для него обременительной обязанностью, от которой отец старался всячески избавиться. К богу он обращался лишь с просьбами и то, когда ни к кому другому обратиться было уже нельзя. Мулл считал мошенниками и вымогателями. Объявив сейчас матушке, что мир так устроен, он тут же добавил: — Там, где бог, там и деньги, где нет бога, там нет и денег…
— Не богохульствуйте! — подняла руки матушка. — Всевышний не причастен к делам людским.
— Но они творятся с его благословения…
Спор переходил границы дозволенного. Матушка повернулась ко мне и сказала:
— Назиркул, иди объяви невестке нашей о своем желании идти учиться. Жена должна знать путь, который избирает муж. Иди, сынок!
Матушка не хотела, чтобы я слышал слова, оскорбляющие слух мусульманина, западающие в душу и смущающие ее. О Мастон она меньше всего думала в эту минуту.
— Спасибо! — поклонился я родителям и вышел из комнаты.
Спор о боге меня не интересовал, а необходимость присутствовать при нем — тяготила.
«Буду учиться… Буду учиться», — повторял я как песенку, торопясь в ичкари — женскую половину.
Мне надо было с кем-то поделиться своей радостью, а кроме Мастон никого из взрослых в доме не было. Хотя двенадцать лет тоже не великий возраст!
У двери я вдруг остановился. Вот уже полгода, как я не говорил с Мастон. Даже больше. Не было надобности что-то обсуждать и решать сообща. Ведь Мастон жила у нас как родственница, хотя и считалась моей женой. Матушка определяла обязанности Мастон. Ей полагалось встречать меня на террасе, подавать полотенце, лить из кумгана воду на мои руки, приносить еду, ставить передо мной, ждать, когда поем и попью чай, кланяться и уходить.
Я к этому привык. Слов от нее никаких не слышал и, наверное, удивился бы, услышав. Постепенно забылось и слово «жена». Его иногда произносила матушка, как произнесла сейчас, отправляя на переговоры с Мастон.
У дверей я вспомнил, что никогда не заходил в комнату Мастон вечером, да и днем такое, кажется, не случалось. Не без смущения и робости я надавил на створку. Со скрипом она отошла, и я увидел Мастон, сидящую на курпаче с каким-то шитьем в руках.
Не зная, кто входит, и ожидая лишь матушку, Мастон спокойно повернула голову и вдруг вскрикнула «ой!».
Удивление и испуг были в этом возгласе.
— Ты что, Мастон? — спросил я, обескураженный такой встречей.
Она не ответила. Сжала руки на груди, словно защищалась.
Мама послала меня поговорить с тобой, — как можно мягче произнес я, объясняя свое неожиданное появление в ичкари.
Мастон еще крепче сжала руки на груди.
— В городе открывается новая школа, — повторил я слова отца. — В ней будут учиться дети бедняков. Бесплатно учиться…
Мастон слушала, но не воспринимала то, что говорилось. Я понял это но выражению ее глаз, по-прежнему полных страха. Она все еще боялась чего-то, что должно последовать за моим появлением и моими словами.
— Каждый может записаться, — продолжал я. — Мулла Хатам вместе с дядей Джайнаком обходят махалли и записывают детей. Ты видела большой белый дом, который построил Исмаил-бобо?
Страх стал гаснуть в глазах Мастон. Ничего пугающего слова мои не несли, и это успокаивало. А когда я спросил о белом доме, она попыталась вспомнить, видела ли его, вспомнила и кивнула.
— Вот в этом доме и будет новая школа, — обрадовался я. — От нас совсем недалеко, в начале базара.
Робкий интерес пробудился в Мастон. Правда, не к школе, не к тому, что она открывается в белом доме.
— Зачем вы все это мне говорите? — спросила она с удивлением.
— Не понимаешь?
— Нет.
— Я хочу, чтобы ты пошла учиться.
Страх опять вспыхнул в глазах Мастон.
— Вы прогоняете меня?
Я опешил. В моих словах не было ничего, говорящего о ненависти.
— С чего ты это взяла, Мастон?
Она вдруг заплакала.
— Муж, посылающий жену в школу на глаза людей, прогоняет ее.
Она искренне огорчилась, слезы были безутешными. Глупая, она совсем не понимала, о чем речь. Я опустился рядом с ней на курпачу.
— Пойми, ты останешься с нами, только будешь утром ходить в школу…
Мастон в отчаянии каком-то прильнула к моему плечу, словно искала спасения.
— Не прогоняйте!.. Не прогоняйте!..
Жалость к этому маленькому бедному существу охватила меня. Как утешить Мастон, я не знал. Стал гладить ее волосы, приговаривая:
— Не плачь… не плачь… Школа — это совсем не страшно. Там нет муллы Миртажанга, там не наказывают детей.
Мастон не хотела слушать, и выражала это тем, что упорно качала головой.
— Значит, не пойдешь учиться?
— Нет.
Я огорченно вздохнул.
— Глупая ты, Мастон…
Она согласилась. И даже обрадовалась тому, что услышала обидное для себя слово.
— Глупая, глупая… Но не прогоняйте меня.
Третий раз в своей маленькой жизни я переступал порог школы. Первый раз, если помнит читатель, меня, всего в слезах, матушка втащила во двор отинбуви. Я сопротивлялся изо всех сил, рыдал, брыкал ногами. Второй раз вошел сам, но подталкиваемый матушкой. Испуганный, с душой, ушедшей в пятки. Третий раз — один, без мамы, без слез, без страха. Конечно, взволнованный чуточку — событие-то было торжественное, и мир открывался неведомый.
У ворот школы меня встретил мулла Хатам. Он улыбался приветливо, прикладывал руку к сердцу, словно я был не ученик, а желанный почетный гость.