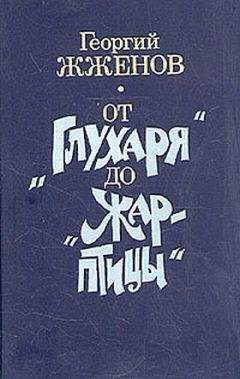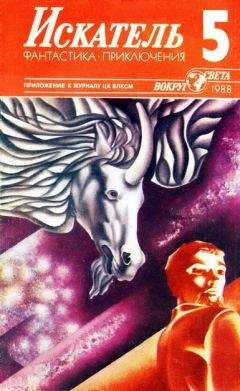Русская миссия Антонио Поссевино - Федоров Михаил Иванович
Дож, увидев вошедших, поднялся и приветствовал русского посланника стоя. Он был одет в пурпурный камзол и укутан в расшитую золотом парчовую мантию. Голова покрыта красной островерхой шапкой с золотым же шитьём. В хорошо натопленном по случаю зимнего времени Зале коллегий, где происходила встреча, это казалось лишним, но того требовали обстоятельства: нечасто Венецию посещают посланцы русского царя. К тому же, учитывая, чего от этой встречи ожидал да Понте, следовало произвести впечатление. Кроме этого, по причине преклонного возраста дож сильно мёрз, и только тёплая одежда и жаркая печь спасали его от озноба.
Отпустив сопровождавшего русского посланника распорядителя и приняв из рук Истомы письмо, Николо да Понте осведомился о здоровье царя Ивана, попросил на словах передать ему наилучшие пожелания, после чего пригласил сесть и сам опустился на мягкий стул с резной спинкой, передав послание помощнику. Тот, мельком глянув на печать, открыл письмо и принялся читать. "Вона как тут всё, — подумал Истома, — человек, языки знающий, есть, который не только слова перетолмачивает, но и грамоту нашу знает".
Из-за преклонного возраста дож не мог долгое время стоять — от этого у него дрожали ноги и кружилась голова. Поинтересовавшись, как посланник с товарищами выстоял в схватке с разбойниками, сочувственно закивал головой: да-да, разбойники порой встречаются в береговых владениях Венеции, но доблестные страдиоты всегда приходят на помощь путешествующим. И совсем скоро с этим злом будет покончено совершенно. Истома в свою очередь осведомился о здоровье правителя Венеции и тоже пожелал ему долгих лет. Оба, приглядываясь друг к другу, старались поскорее покончить с формальностями.
Помощник, прочитав послание, склонился к дожу и что-то прошептал ему на ухо. Тот, благосклонно улыбаясь, произнёс по-итальянски:
— К чему эти тайны, Альберто? Говори в полный голос, мы ничего не должны скрывать от господина посланника русского царя.
Верно определив род занятий Паллавичино, дож обратился к нему:
— Русский посланник владеет каким-то языком кроме родного?
Паллавичино поклонился сначала дожу, потом Истоме и перевёл вопрос.
— Говори как есть, — велел Шевригин.
Паллавичино поклонился ещё раз и произнёс:
— Кроме родного языка господин Истома Шевригин немного знает латынь, и больше ничего.
Выражение лица дожа не изменилось. Он улыбнулся Шевригину и сказал на латыни:
— Значит, господин посланник, мы с вами сможем беседовать и без переводчика.
Истома наморщил лоб, показывая, с каким трудом он подбирает слова неродного языка, чтобы составить из них связную фразу:
— Иногда это возможно, но лучше говорить через людей, лучше знающих языки.
Дож снова кивнул:
— Хорошо, пусть будет так.
И снова обратился к Паллавичино:
— Передай господину русскому посланнику, что сейчас мы направимся в Зал Совета десяти, и там он ответит на вопросы лучших людей Венеции [29].
Шевригин видел, что да Понте чрезвычайно рад написанному в грамоте. Откуда ж этому старому прощелыге знать, что всё это вышло из-под пера лишь вчерашним вечером в таверне Кампальто? Он мысленно ухмыльнулся, стараясь, чтобы его истинные чувства никак не отразились на лице. Истома с юных лет привык держать в узде свои страсти, одновременно угадывая намерения других людей, как бы те ни пытались их скрыть. Вроде ничего человек не сказал, ни даже бровью не повёл, а Истоме ясно, что у того на уме. Нет, читать совершенно всё, чем набита голова собеседника, он не мог. Но как меняется настроение и что тот намерен предпринять в ответ на Истомины слова или действия, почти всегда видел предельно чётко. И непонятно, откуда взялась такая его способность: то ли, как матушка говорила, ангел, пролетая мимо, крылом голову его задел, то ли от соседки-ворожеи, старенькой Барсучихи.
Церковное имя у неё, конечно, другое было, но все её только так и звали. Знала она заговоры, варила разные снадобья да людей лечила. А обращались к Барсучихе многие. Платы она за своё знахарское ремесло не требовала, отвечая всем:
"И-и-и-и-и, милай! Палаты каменны подаришь или ломоть ржаной — мне всё одинаково! Туда, — она мотала головой за спину, — всего не заберёшь, а здесь Бог всегда прокормит".
Попы пытались её выгнать из Москвы — мол, колдует старуха, — да как-то быстро поостыли, даже удивительно. И люди государевы [30], что по всему царству Русскому крамолу искореняли, к ней не наведывались. И неясно было — то ли заступник у Барсучихи какой, то ли ещё чего. Хотя какой там заступник! Не так живут те, у кого есть заступник среди сильненьких. Жила она бедно, хоть и чистенько, а людей принимала и днём и ночью.
Матушка рассказывала, что когда она Истомой тяжёлая ходила, все повитухи в один голос твердили, неведомо, по каким своим бабьим знакам понявшие, что родится ребёнок мёртвеньким либо помрёт в первые же три дня. Ей и так не по себе — в первый же раз рожать, а тут ещё эти каркают. Совсем опечалилась бывшая Катаржина, а в православном крещении Ефросинья, дочь бежавшего на Русь белостокского бондаря. Тогда-то и пришла Барсучиха в дом служилого человека Андрея Шевригина, боярского сына, давно обосновавшегося в Москве уроженца земли Рязанской, и пообещала, что родится мальчик здоровым и смышлёным. И проживёт долго. Только роды принимать должна она, Барсучиха. И за младенцем первое время присматривать, чтобы не вышло чего. Что она за помощь просила — отец Истоме не сказал. Может, по обыкновению своему, и не просила ничего. Сейчас уже и не узнаешь.
Родился ребёночек быстро, без долгих схваток, и роды дались Ефросинье легко. Да она и не помнила ничего. Дала ей Барсучиха выпить какой-то отвар перед тем, как ребёнка принимать, и как будто память отшибло. Вроде бы и сознания не теряла, а спросишь — как всё было, и не скажет.
Ну да ладно. Ребёночек здоровеньким родился, и то славно. А потом ещё, и ещё, и ещё. И все такие же, как старшенький, здоровые да весёлые. Эх, если б не тот крымский набег! После того как крымцы Москву спалили и вся его семья погибла, Истома Барсучиху больше не видел. Многие тогда сгинули.
С самых юных лет невероятная прозорливость позволяла Истоме определять, когда отец готов выпороть его за проказы, а когда просто пожурить. Он всегда знал, когда можно возвращаться в избу, а когда лучше немного подождать, пока отец остынет. Поэтому и поротым он ходил крайне редко. В отличие от товарищей своих по играм, которые частенько маялись поротыми вожжами задницами. Истома сначала удивлялся — как это они не смогли узнать, что им за проказу будет — по лицу же всегда видно, что у отцов на уме. А друзья только смотрели на него непонимающе и ответить ничего не могли. А потом он и спрашивать перестал, уяснив, что разными бывают люди, ох какими разными!
Отца своего и соседских мужиков Истома всегда видел хорошо. Он так для себя и решил, что "видеть" — это не просто "смотреть и узнавать", нет! У него как будто было некое особое зрение, которое у других людей отсутствовало. И ещё понял однажды Истома, что для того, чтобы видеть по-настоящему, совсем не обязательно смотреть глазами. Порой он чувствовал человека, даже не видя его глаз, его лица. Просто сбоку или даже со спины. Он и сам не мог бы толком объяснить, как это происходит. Вот просто становится он рядом с человеком и сразу понимает, чего от того ждать: готов ли он врать и убивать, или наоборот — честный и бескорыстный добряк. Правда, таких, про кого сразу можно сказать, что он мерзавец или, напротив, ангел во плоти, Истома не встречал. Чаще всего в людях было намешано всякого в разных долях — и хорошего, и плохого.
Это уменье и позволило Истоме Шевригину, сыну служилого человека Андрея, пробиться в Посольский приказ, попутно освоив несколько языков. А потом оставаться у приказного дьяка Андрея Щелкалова на хорошем счету. И неважно, что сам он, Истома, как и отец его, из сословия детей боярских — у царя люди ценятся не за заслуги предков, а за ум и рвение [31].