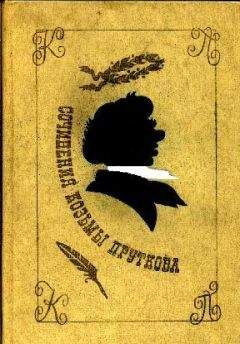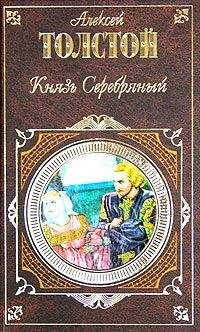Алексей Самарин - Сигнализация
Революционный рационализм в произведениях Ф. М. Достоевского представлен образами Раскольникова, Шигалёва, Петра Верховенского. Читая «Преступление и наказание», мы впервые сталкиваемся с логически выверенными, но бесчеловечными, в сущности, фантазиями главного героя – Р. Раскольникова. Он делит людей на два неравных класса: один состоит из натур властных, способных господствовать над другими и вести их за собой. Они благодетельствуют человечеству, давая ему новые великие мысли, основывая государства, совершая преобразования и т. д.; их немного. Во втором классе находится многомиллионная масса, обыкновенные люди, исторический материал. Человеческая мораль существует только для обыкновенных людей, тогда как «властители» и «вожди», люди, принадлежащие по натуре своей к первому классу, свободны от всяких нравственных предписаний. Они могут нарушать все моральные законы и даже имеют право на преступление, если оно нужно для достижения их целей. Только они имеют право называться настоящими людьми, все остальные – «презренные вши». Если это «настоящему человеку» нужно, он имеет право без всякого угрызения совести убить «вошь». Но «вши» таких прав не имеет, и потому злая «вошь», то есть обыкновенный человек, который мучит других, не обладая правами властителей, особенно достоин презрения, и его следует уничтожить в первую очередь.
Парадоксальность и аморализм идеи Р. Раскольникова прозвучали в уже несколько иной противоречивой интерпретации Шигалёва – одного из героев «Бесов», который запутался в понимании свободы и деспотизма. «Я запутался в собственных данных, – говорит Шигалёв, – и моё заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом».
И уже эта «путаница» как вполне законченная доктрина воплотилась в мрачном, хотя по-своему и величественном, Великом Инквизиторе «Братьев Карамазовых», центральной идеей которого стало именно принципиальная невозможность всеобщей народной свободы: «ибо ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы!» От этого бремени освобождают людей избранные властители, и только таким образом, возможно устроить всеобщее человеческое счастье.
Именно таким «борцом за всеобщее человеческое счастье» предстаёт перед нами П. Верховенский – идеолог цинизма и вседозволенности, который разрешает себе даже «кровь по совести». Для этого человека нет ничего святого, внутренне невозможного, он не остановится ни перед какими злодеяниями, подлостью, не ужаснётся ничему, для него цель, безусловно, оправдывает любые средства.
Причину такой одержимости Ф. М. Достоевский видит в культе рационализма, который устраняет из жизни духовность как нечто отжившее и устаревшее, и тем самым фактически уничтожает человека как личность, упрощает его до социальной функции с ограниченным и известным набором потребностей.
Стремление единолично определять потребности и возможности народа, человечества; управление извне вместо доверия к совести каждого – одна из серьёзнейших опасностей, которой ни в коем случае не следует пренебрегать. Универсальная политическая система, какой бы она ни была, нивелирует индивидуальность, так как не доверяет человеку, его совести, нравственности. Не случайно у Достоевского всякая политическая идея порождает в конечном итоге авторитарную политическую систему, сводящую значение отдельного человека до уровня простой функциональной единицы. Система противоречит личности, а потому её принципом становится не единство, а единообразие, лишающее человека подлинной свободы – духовной.
К каким реальным последствиям может привести следование «истине вне Христа». Это явление Достоевский мог наблюдать на примере Российской действительности 60–70 годов 19 века, в которой борьба рациональных идей нередко заканчивалась банальной уголовщиной (нечаевское дело). Поэтому он и говорит в письме к Н. Д. Фонвизиной от конца февраля 1854 года:
«…если б кто мне доказал, что Христос вне истины и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться с Христом, нежели с истиной».
Достоевский о «бесах» абстрактного гуманизма
Разновидностью революционного рационализма, по мнению Ф. М. Достоевского, является абстрактный гуманизм, который стремится создать нравственность «вне Христа», обожествить человека и человеческое. Такие взгляды в романе «Бесы» проповедует Кириллов. Он ищет «последней свободы», которая навсегда освободила бы не только его самого, но всё человечество от страха боли и страха смерти: «Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Теперь всё боль и страх… Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Теперь человек ещё не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый… Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое…» Человек должен освободиться ото лжи и «заявить своеволие»: «Я три года искал атрибут божества моего и нашёл: атрибут божества моего – Своеволие!»
В этой идее он идёт от логического конца, утверждая то, на что не осмеливался, кажется, даже самый последовательный из атеистов: «Если нет бога, то я сам бог!» Используя евангельскую символику, Кириллов совершает как будто всего лишь формальную перестановку частей слова, но в ней – сердцевина его идеи:
«– Он придёт, и имя ему человекобог.
– Богочеловек?
– Человекобог, в этом разница».
Однако сам Кириллов ещё не счастлив, хотя понял уже про себя, что он «хорош». Ему надо ещё доказать свою идею, и доказать «математически, чтобы дважды два похоже было», а для этого необходимо «заявить своеволие в самом высшем пункте». Единственным же решающим аргументом, доказывающим идею Кириллова, становится самоубийство. «Кто будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек». «Если бог есть, то вся воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие… Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал – есть нелепость, иначе непременно убьёшь себя сам. Если сознаёшь – ты царь и уже не убьёшь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я ещё только бог поневоле и я несчастен, ибо обязан заявить своеволие».
Идея абсурдности рационального гуманизма, которая в своей крайности есть не что иное, как «если нет бога, то всё позволено», поднимается во многих романах Ф. М. Достоевского, но только в «Бесах» она предстаёт перед нами в своей ужасной простоте. Не случайно поэтому Кириллов подсознательно сопротивляется своему решению, этой мысли, иначе и быть не может: нормальная человеческая натура не принимает рациональной идеи, жизнь восстаёт против смерти. Сцена самоубийства Кириллова исполнена почти запредельного ужаса, так как гуманизм без Христа, вне христианства и есть самоубийство, самоубийство человечества. И мы, дети 20-го века, пережившие ужасы двух мировых войн, вступившие в 21-ый век под взрывы бомб и захваты заложников террористами, на практике ощутили прозорливость идей великого русского писателя и мыслителя Ф. М. Достоевского.
Достоевский о «бесах» буржуазно-мещанского практицизма
Осуждая революционный рационализм и абстрактный гуманизм как «мёртвые истины», Достоевский на примере Лужина из «Преступления и наказания» показывает нам истинное лицо буржуазного утилитаризма.
Лужин – носитель обыкновенного, мещанского, эгоистического мировоззрения. Чтобы на свете или в государстве было больше счастливых людей, нужно поднять общий уровень зажиточности, а так как основой хозяйственного прогресса является личная выгода, каждый должен о ней заботиться и обогащаться, не беспокоясь о любви к людям и тому подобных романтических мечтаниях, не давая им отвлекать себя от цели. Единственным ограничением для ищущего своей выгоды эгоиста является разумное чувство меры. Эта мещанская, банальная идеология отличается от воззрения Раскольникова и компании своею мелкостью, но она им все-таки как-то сродни, так что её даже можно воспринимать как своего рода пародию: это как бы обоснование права на существование той самой «вши», которую Раскольников так презирает, и при том «вши», стремящейся занять, так сказать, командное положение и посягающей таким образом на права «настоящих людей».
Простота, доступность и привлекательность, а, следовательно, и опасность таких идей была для Достоевского слишком очевидна. Поэтому в «Дневниках писателя» он предупреждал, что полное и скорое утоление потребностей понижает духовную высоту человека, незаметно приковывает его ещё сильнее к узкой сфере самоцельного умножения чисто внешних форм жизни, обостряющих многосторонность насладительных ощущений и связанных с ними «бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок». Всё это, в свою очередь, способствует в виде обратного эффекта развитию «имущественной похоти», к нескончаемому наращиванию самих сугубо материальных потребностей, беспрестанно насыщаемых обновляемыми вещами, что делает человека пленником собственных ощущений. По мнению писателя, люди, находясь в плену такого цикла, невольно соглашаются жить как животные, то есть, чтобы «есть, пить, спать, утраивать гнёзда и выводить детей. О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком – ещё слишком долго будет привлекать человека на земле…».