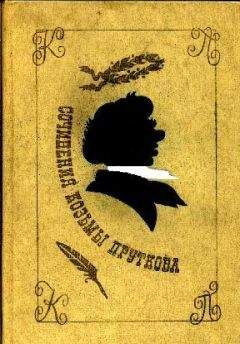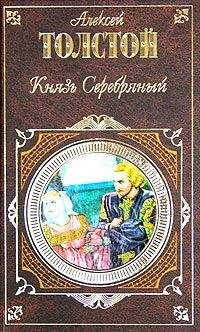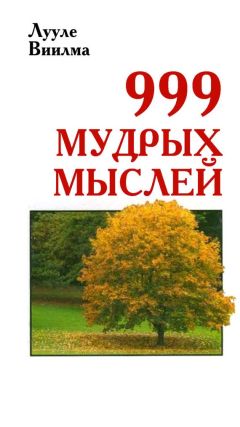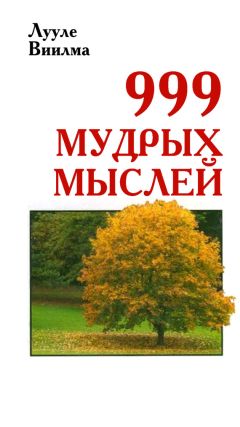Алексей Самарин - Сигнализация
В представлении Достоевского подобные идеалы далеко не безобидны для нравственного состояния личности и направления исторического развития, поскольку укрепляют в человеке «ожирелый эгоизм», делают его неспособным к жертвенной любви, потворствуют формированию разъединяющего людей гедонистического жизнепонимания. И тогда «чувство изящного обращается в жажду капризных излишеств и ненормальностей. Страшно развивается сладострастие. Сладострастие родит жестокость и трусость… жестокость же родит усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда, в долгий мир, под конец обращается в какой-то панический страх за себя, сообщается всем слоям общества, родит страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества, провозглашается громко тезис: „Всякий за себя и для себя“… Все уединяются и обособляются. Эгоизм умерщвляет великодушие».
Достоевский о «бесах» либерального сентиментализма
Федор Михайлович Достоевский, как любой позитивный мыслитель, не только обсуждает «бесов» рационализма и мещанского практицизма, но и стремится разобраться в причинах данной болезни, поразившей умы и души людей. В связи с этим, в его романе «Бесы» показаны духовные предтечи этих заблуждений – представители предшествующего поколения. Прежде всего, это Верховенский – старший и отчасти Кармазинов. Нет, они не хотели этого и даже ужаснулись, когда увидели практическую реализацию своих возвышенных идей, но они объективно подготовили бесовщину. И не только даже конкретными идеями, сознательным воспитанием, просвещением в определенном – либерально-атеистическом духе. Здесь можно было бы понять пафос Степана Трофимовича, который восклицает: «Вы представить не можете, какая грусть и злость охватывает всю душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете её уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят. Нет! В наше время было не так, и мы не к тому стремились». Но вопрос именно в том и состоит – а могло ли быть иначе? Ибо воспитывали последующее поколение не столько мысли и идеи как таковые, сколько вся система эмоционально-ценностных мироориентаций, воплощенная в определённом типе поведения либералов 40-х-50-х годов. Важнейшим же в этом типе было, если говорить коротко, невероятное расхождение слова и дела, причем ощутимо в пользу слова. Было много красивых фраз и каламбуров (эта черта останется у Степана Трофимовича почти до конца), как следствие – было чрезвычайно преувеличенное представление о собственной значимости, а дела, как выясняется, и не было. Не было даже намёка на дело. Преобладающей эмоционально-ценностной ориентацией, своего рода доминантой личности становилась сентиментальность, с её неотъемлемым свойством – рассматривать весь мир сквозь самого себя и видеть и любить, в сущности, не мир, а только лишь собственную личность. А в отношении всего остального мира рядом с сентиментальностью как-то незаметно, но, тем не менее, неизбежно, начинает прорастать цинизм. Стоит ли удивляться результатам, явившимся уже в следующем поколении?
Оно отвергло доминанту предшествующего – сентиментальность, но тем с большей силой, не уравновешенный никаким примеряющим началом, разбушевался цинизм.
Достоевский о «бесах» нигилистического скептицизма
Не только либеральный сентиментализм породил «бесов» рационализма и мещанского практицизма. Семена, им посеянные, дали обильные всходы на почве нигилистического скептицизма и практицизма. Семена, им посеянные, дали обильные всходы на почве нигилистического скептицизма и абсолютной иронии. Разве Ставрогин из «Бесов» это не Понтий Пилат, равнодушно умывающий руки после осуждения Христа? Поэтому именно Ставрогин – тот идейный центр романа, из которого берут своё начало все духовные разновидности зла. Кто же он, в какую идею верует? Начнём с того, что Ставрогин явно не верит ни в одну из тех взаимоисключающих идей, которыми он успел одновременно заразить Шатова, Кириллова, Петра Верховенского. «Да разглядите внимательно, ваш ли я человек», – замечает он Петру Степановичу, а в предсмертном письме объясняет, почему он даже «для смеху, со злобы» не мог «быть тут товарищем». «Я вам только, кстати, замечу, как странность,…почему это мне все навязывают какое-то знамя?» Это уже Шатову на его призыв: «Вы, вы один могли бы поднять это знамя!». Не вполне понятной и чуждой остаётся ему и идея Кириллова: если Ставрогин и атеист, то на иной манер, нежели Кириллов; тот, страстно и яростно отвергая «богочеловека», не менее страстно и яростно утверждает «человекобога», для Ставрогина же смысл неверия полностью заключён в частице «не», вера не отрицается во имя некоторой новой позитивной идеи. «Из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и без всякой силы», – замечает он, а затем прибавляет точнейшую, характернейшую оговорку: «даже отрицание не вылилось». И в этой оговорке, может быть, сущность характера и эмоционально-ценностной ориентации Ставрогина: чтобы в самом деле что-то отрицать, надо это «что-то» ненавидеть, надо чувствовать и противопоставлять ненавидимому злу любимое добро.
Пред нами, таким образом, классическая эмоционально-ценностная ориентация законченного, завершённого ироника. Ирония как философский принцип отрицает ценности не во имя их противоположностей, а во имя универсального скепсиса; отрицание у ироника не служит оборотной стороной утверждения, а существует как абсолютная ценность, само по себе. Ставрогин-ироник неуязвим именно в силу того, что в его мироощущении нет места сколько-нибудь существенным ценностям – он не дорожит ничем: ни жизнью, ни идеей, ни репутацией.
Ставрогин, таким образом, одержим самым последним, «конечным» бесовским искушением, полным и абсолютным неприятием всех без исключения жизненных ценностей, полным и абсолютным неразличием добра и зла, отказом не от любой этической категории. Неслучайно идеи Шатова, Кириллова, Верховенского восходят к нему как к своей предтече и основе, но Ставрогин идёт глубже каждого из них в разрушении нравственного мира личности и человечества. В этом смысле его образ абсолютен, это не аллегория русского общественного сознания 60–70 годов, но всечеловеческий символ. И слова, взятые из Откровения Святого Иоанна Богослова и включённые в главу «Последнее странствование Ивана Трофимовича», не только перекликаются с образом Ставрогина, но и являются для Ф. М. Достоевского важнейшей характеристикой корней русской «бесовщины». «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: „…Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих“».
Ф. М. Достоевский и «бесы» рационального православия
Казалось бы, резко и принципиально отличается от позиций Верховенского, Шингалёва, Кириллова идея Шатова. Она сразу в комплексе отрицает тот набор ценностей, на который так или иначе опирались названные выше герои, – отрицает атеизм, нигилизм, социализм, рациональность. Его идея в отличие от многих других ясна и прозрачна: он верит в богоизбранность русского народа, в того Бога, того Христа, который есть исключительно атрибут русского православия: «Атеист не может быть русским… Неправославный не может быть русским… Единый народ „богоносец“ – это русский народ». Все эти рассуждения на первый взгляд весьма созвучны мировоззрению самого Достоевского. Поэтому делались попытки представить Шатова рупором авторитарной идеи в романе, своего рода положительным началом, противостоящим всем «бесам». Однако при ближайшем рассмотрении Шатов оказывается вовсе не тождественным автору… Прежде всего в том, что его вера не самостоятельна и не тверда. Будучи сначала приверженцем социализма и атеизма, Шатов затем получает от Ставрогина идею «русского бога» практически в готовом виде: «Нашего» разговора совсем и не было: был учитель, вещавший огромные слова, и был ученик, воскресший из мёртвых. Я тот ученик, а вы учитель».
Но есть и более существенный момент, отличающий веру Шатова от веры Достоевского. Ставрогин, со свойственной ему проницательностью, почти сразу же нащупывает критическую точку – не в идее самой по себе, потому что это же им и порожденная идея, а в личностном освоении идеи Шатовым: «…я хотел лишь узнать: веруете вы сами в бога или нет?
– Я верую в Россию, я верую в её православие…Я верую в тело Христово… Я верую, что новое пришествие совершится в России… Я верую… – залепетал в исступлении Шатов.
– А в бога? В бога?
– Я…я буду веровать в бога».
В этом для Достоевского заключена суть дела. Шатов идёт не от веры в Бога к пониманию сущности православия и русского народа, а наоборот: от идеи русской национальной исключительности в возможной вере, к желанию веры. Его роднит с Верховенским, Шингалёвым, Кирилловым рациональность идеи, и он, по-видимому, не способен, как будет сказано позднее в «Братьях Карамазовых», «возлюбить жизнь прежде его смысла». Таким образом, по мнению Ф. М. Достоевского, Шатова подстерегло одно из самых тонких бесовских искушений: возлюбить Христа не в ближнем своём, а в головной абстракции, конкретно – в нации, народе.