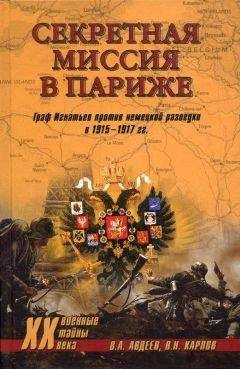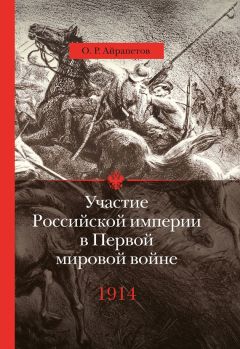Александр Рекемчук - Мамонты
Против шуцбундовцев бросили броневики и танки. По ним били из пушек прямо на городских улицах. Пролилась кровь, было много убитых и раненых, тюремные камеры не вмещали арестантов.
Уцелевшие через Альпы ушли в Чехословакию.
Их принял Советский Союз.
Большинство шуцбундовцев определили на жительство в Харьков, где было много промышленных предприятий и где для охочих рук всегда была работа. Кроме того, даже перестав быть столицей Украины, Харьков как бы остался центром пролетарского интернационального братства.
Их поселили в харьковских гостиницах — в тесноте да не в обиде. Разобрали по заводам — кому тракторный, кому паровозостроительный, кому «Свет шахтера».
Поставили на довольствие в столовке «Инснаба», что на улице Карла Либкнехта.
Тогда, шести лет отроду, я, конечно, не представлял себе размаха событий в их историческом масштабе.
Но даже в том возрасте я иногда заглядывал во взрослые газеты, если там были интересные картинки. Особенно мне нравились карикатуры на Гитлера — косоглазого, носатого, с черными соплями усиков, с челкой наискосок лба, как у босяков с Холодной горы.
То есть, в своих возрастных рамках, я уже понимал расклад сторон и главные характеристики героев.
Но той конкретной средой, в которой они предстали моему неискушенному взгляду, была именно столовая «Инснаба», где работала моя мама.
Ведь я тоже проводил здесь дни напролет — всему был свидетелем, всё видел и всё слышал.
Мое детское любопытство, конечно, возбуждало это шумное общество молодых людей в пестрых пуловерах, штанах с напусками, которые назывались «никкербокер», в нарочито грубых башмаках.
Впрочем, иногда они являлись сюда и при полном параде: в пиджаках, рубашках с запонками, при галстуках. А некоторые, особенно прыткие, уже обзавелись на новой родине одеждой советского фасона: армейские галифе, хромовые сапоги. Эти ходили, задрав носы, презирая буржуйские замашки остальных.
Я часами, сидя в уголке, наблюдал за этим странным людом: за тем, как они едят, как громко хохочут, как вдруг, после кружки пива, начинают распевать за столом тирольские песни с причудливыми горловыми руладами — ол-ля-ри-ио, ол-ля-ри-ио… — им позволяли, ведь у них такой народный обычай.
Моя мама, как и положено заведующей залом, время от времени подходила к посетителям, которых она уже знала в лицо. И они ее знали, всегда радовались ее появлению, ее заботливым расспросам — довольны ли обедом, сыты ли, нравится ли им украинская кухня, не сильно ли скучают по венским кнедликам?..
Особенно часто, замечал я, она подходила к столу, за которым, в числе других, сидел совсем еще молодой, спортивного вида парень.
У него были светлые волосы, почти русые, как и у моей мамы. Но брови его были широки и темны, срастались на переносице — и в этом было необычайное сочетание доброты и суровости, был контраст, сразу привлекавший внимание. В равной мере глаза у него были добрые, светлокарие, чуть навыкате, а губы тонки и замкнуты.
Но когда на его лице появлялась улыбка — открытая, озаряющая всё лицо, — суровость пропадала, и было сразу видно, что он хороший парень, а не сладкий красавчик. Что не гад, не сволочь.
Я уже знал, как его зовут. Его звали Ганс. А вот фамилия у него была слишком заковыристая, не упомнишь враз.
Он приходил в столовку раньше всех, а уходил позже всех. Садился всегда лицом к той двери, за которой была служебная каморка моей мамы — и всё ждал, ждал, когда же она появится.
Но ложку мимо рта не проносил, не тыкал вилкой в скатерть. Ел исправно, что дают. Вместе с тем, было видно, что он ждет — ждет, супя брови, поджимая тонкие губы.
Но вдруг эти брови взлетали, губы расползались в улыбке — и я, даже не оборачиваясь, знал, что в это мгновение моя мама появлялась в дверях и шла через весь зал…
Чудной такой парень.
К октябрьскому празднику дружный коллектив столовой «Инснаба» готовил концерт художественной самодеятельности.
Такой был тогда обычай: хоть в детском саду, хоть в школе, хоть на заводе, хоть в красноармейском полку — к майским дням и к Октябрю обязательно должен быть смотр народных талантов.
Кто умел петь, тот разучивал новую песню. Кто был горазд плясать гопак или лезгинку — репетировал лихие коленца. А тот, кто ничего не умел, вместе с другими неумеками выстраивал живую пирамиду из собственных тел — с лентами, звездой, серпом и молотом, вот тебе и герб.
Моя мама готовилась прочесть стихотворение.
Ведь у нее, всё же, был некоторый артистический опыт. Еще когда мы жили в Одессе, она снималась в «Кармелюке», в «Праве отцов», в «Темном царстве». И пусть это были немые фильмы, без звука, но тем важнее была выразительность движений, мимика, страсть души. И пусть из-за жизненных неурядиц ей пришлось оставить экранную карьеру, пойти работать заведующей залом в едальню «Инснаба», — но кто может знать наперед, как еще повернется судьба?..
Зал был набит битком.
Гости сидели за теми же столами, с которых только что убрали тарелки.
Ради случая, все принарядились, как могли. И все, затаив дыхание, смотрели туда, где вдоль стенки было освобождено пространство, которое, при желании, можно было принять за сцену.
Мама появилась из той же двери, за которой была ее служебная каморка.
Она была в черном платье, оттенявшем светлое облако завитых волос и жемчужное сиянье глаз.
И этот строгий наряд, как я теперь понимаю, должен был отделить ее, чтицу — чтоб никто не подумал, — от героини, горестную исповедь которой она намеревалась поведать.
— Михаил Голодный, «Верка Вольная», — сама объявила она.
Я обвел взглядом столы, которые были в круге моего внимания: а здесь ли тот парень, тот Ганс, ради которого — об этом я Уже догадывался, — она решила, хотя бы на один вечер, вернуться к артистическим увлечениям своей юности?
Да, он был здесь. Сидел, вытянув тонкую шею, вылупив от любопытства свои и без того лупоглазые гляделки.
Верка Вольная —
коммунальная жёнка, —
Так звал меня
командир полка.
Я в ответ
хохотала звонко,
Упираясь руками в бока…
Я отцу
меха раздувала.
Пил отец,
буянила мать.
Белый фартучек я надевала,
с гимназистом ходила гулять…
На той маленькой фотокарточке, где она снялась девочкой с косичками, гимназисткой, фартук был не белый, а черный.
И это тоже подчеркивало всю разницу, всю пропасть между моей мамой и той девицей, которую звали Верой, Веркой, у которой мать буянила. Ведь наша бабушка Шура такого себе никогда не позволяла. Да и кузницы, в которой раздувают меха, у нас не было.
…Год Семнадцатый
грянул железом
По сердцам,
по головам.
Мне Октябрь волос подрезал,
Папироску поднес к губам.
Куртка желтая
бараньей кожи,
Парабеллум
за кушаком,
В подворотню бросался прохожий,
увидав меня за углом…
Я еще раз взглянул на того парня, которого зовут Ганс, и только сейчас обнаружил — ну и ну! — что он явился на вечер художественной самодеятельности, посвященный Октябрю, с бантиком на шее. То есть, он был не просто при галстуке, а с бабочкой, в каких карикатуристы изображают в газетах недорезанных буржуев — ну и ну! — ладно хоть бабочка у него была красной, можно принять за революционный бант.
Я знал на память эти строки, которые сейчас с выражением декламировала моя мама.
Дома, на подоконнике, валялась тонкая расхристанная книжка поэта Михаила Голодного, в которой она и нашла это стихотворение. Вероятно, оно ей очень понравилось, иначе стала бы она твердить его наизусть?..
Готовясь к сегодняшнему вечеру, мама не просто повторяла его раз за разом, обращаясь в пустоту либо к зеркалу. Ей был нужен, конечно, живой и отзывчивый слушатель.
И этим слушателем был я: она усаживала меня на тахту, смотрела мне прямо в глаза, следя за тем, чтобы я не заскучал, не заснул невзначай.
Так что теперь и я уже знал наизусть это довольно длинное стихотворение.
И сейчас, заранее торжествуя, я ждал тех строк, где говорилось про одного молодца, который был «член компартии из Уругвая» и который плакал: «Верко! Люби меня…»
Шел как баба
он к автомобилю,
По рукам было видно —
не наш.
Через год мы его пристрелили
За предательство и шпионаж…
Ну, как? Я вновь посмотрел на парня по имени Ганс, что сидел с дурацким бантиком на шее. Ну, что — теперь понял? Тут тебе не игрушки, а самая настоящая революция, не как у некоторых, за Альпами. У нас, учти, порядки строгие: чуть что… смекаешь?