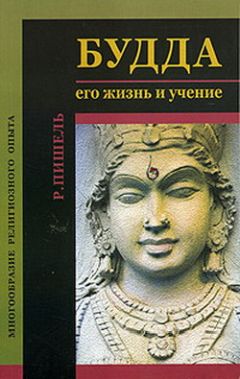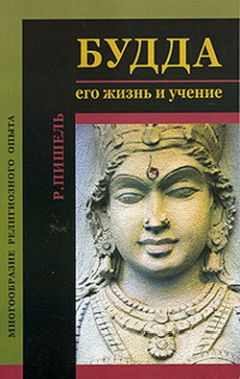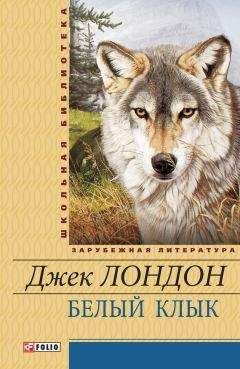Никита Елисеев - Против правил (сборник)
А невероятная, усталая какая-то, немного раздраженная историософия быта и бунта в России в стихотворении «Поправка к истории»? И снова – сдвоенная цитата, на этот раз из «Капитанской дочки». Сначала – про русский бунт, бессмысленный и беспощадный, а уж потом про сон Гринева, воплотившийся уже не только и не столько в историю, сколько… в быт, в печальную и бурлескную обыденность. В «Поправке к истории» реплика много пожившего человека, раздраженного чрезмерной ученостью спорящих перерастает в злое, безжалостное описание того, как бунт в России вырастает из быта; да он, собственно, и не вырастает – быт России и есть тот самый перманентный бунт, не перманентная революция по Троцкому и Парвусу, а бунт по «Капитанской дочке».
Поправка к истории
При чем тут Ленин, эсеры, бунд?
Не так беспощадно-бессмысленный бунт
делался до сих пор.
А выйдет субтильный такой мужичок,
почешет рептильный свой мозжечок,
да как схватит топор!
Свою избу разнесет в щепу
и страшным криком «Я всех гребу!»
повеселит толпу.
И тут набегут мусора-опера,
начнется изъятие топора
и советы веселой толпы вокруг
насчет вязания рук.
И будет он срок в болоте мотать,
и песню мычать про старуху-мать,
мокредь разводя по лицу,
и охраны взвод будет – ать-два-ать —
два! – маршировать на плацу.
«При чем тут Ленин, эсеры, бунд?» – великолепное, in media res начало. Сразу видишь «предшествующее событие»: сидят интеллигентные, неглупые, начитанные люди… не без монархизма, не без антисемитизма, такого… в цивилизованных рамках, сидят и разговаривают: «Но, конечно, Ленин… Конечно! Гений! Гений политики, гений зла, разрушения, но гений – этого нельзя не признать. Без него ничего бы не получилось…» – «Нет, нет! Ленинское злое семя упало в подготовленное не им лоно. Эсеры! Вот кто своими бомбами, своей пропагандой расшатал государственность в России… Недаром именно их аграрную программу Ленин взял в качестве своего демагогического декрета о земле…» – «А евреи? Не надо забывать о еврейском элементе русской революции. Ведь Бунд…»
Вот тут молчавший до сих пор человек не выдерживает:
При чем тут Ленин, эсеры, Бунд?
Не так беспощадно-бессмысленный бунт
Делался до сих пор.
А выйдет субтильный такой мужичок,
почешет рептильный свой мозжечок,
да как схватит топор…
Великолепное описание российского «перекувырка» и не менее великолепное описание российской «контрреволюции», так сказать, «восстановления законного порядка».
«И тут набегут мусора-опера, / начнется изъятие топора / и советы веселой толпы вокруг / насчет вязания рук…» Вот эти «советы веселой толпы вокруг» – как раз пример «огибания речью сюжета». Не нужно воспроизводить все эти советы, мы и так их слышим, мы видим толпу, окружившую оперов, вяжущих хулигана. Лосев владел этим свойством настоящего писателя: огибать речью то, что читатель благодаря этому огибанию начинает видеть.
Лосев умел передавать речевой жест. В страшных (и смешных) «Стансах» есть один такой, благодаря которому становится виден и весь modus vivendi вторгшегося в текст «чужого». Легкое такое покачивание в облаке из перегара, агрессия, оборвавшаяся недоумением: «Он не еврей? Подымем, отряхнем…»
«Стансы» вообще одни из самых страшных и ироничных стихов Лосева. Грамотно составленный ответ на «В надежде славы и добра…», «Столетье с лишним не вчера…» и «Я не хочу средь юношей тепличных…». Мол, великие предшественники, позвольте мне тоже внести коррективы. Я, конечно, понимаю: Гомер, Мильтон и Паниковский, но все-таки… какое уж тут «примирение с действительностью», когда
При мне посередине площадей
Живых за шею вешали людей,
Пускай плохих, но там же были дети!
Понятно, понятно – военные преступники, и с ними иначе нельзя, но вы понимаете, это было такое народное гулянье у кинотеатра «Гигант», такой аттракцион:
Вот здесь кино, а здесь они висят,
качаются – и в публике смеются.
Вот все по части детства и уютца,
Багровый внук, вот твой вишневый сад.
Эта и есть та действительность, с которой стоит-не-стоит примиряться. И «сфинкс» – душа, загадка действительности – ей под стать. «…и в узком переулке встретил Сфинкса, / в его гранитном рту сверкала фикса, / загадка начиналась словом <…>. // Разгадка начиналась словом: „Н-на!” – / и враз из глаз искристо-длиннохвосты, / посыпались блуждающие звезды, / и путеводной сделалась одна.»
Маршрут указан: поэт с битыми, с проигравшими, во всяком случае – не с победителями. «Важно не примкнуть к победителям. Не приветствовать их парад…» (Б. Слуцкий). «Неприветствие парада победителей» – органическая черта Лосева. Смотри удивительное его стихотворение о том, как в России по недомыслию или по дьявольскому расчету в очередной уже раз делают поколение фронтовиков:
Да заря победы всегда заря новой войны.
Превратить этих мальчиков в свору зверья —
Как два пальца и хоть бы хны.
Тот, кто в шаль закутывал мать
и невесте дарил кольцо,
может завтра руку ребенку сломать,
сапогом наступить на лицо…
Из всех откликов на Чечню и Афган – этот самый больной и точный. Ореол метра. Таким стихотворным размером Киплинг и Борис Слуцкий писали свои баллады:
Я топил лошадей.
Я людей спасал,
Ордена получал за то,
А потом в стихах все описал.
Ну и что? Ну и что? Ну и что?
Лев Лосев недаром принадлежал в юности к компании поэтов (Владимир Уфлянд, Михаил Еремин, Михаил Красильников), прозванной, пусть и иронически, «филологической школой». Он – сознательно литературен. Литература для него такая же жизнь. В ней перекликаются, как в жизни. Постороннему не всегда внятна такая перекличка, но если вслушаться, услышишь.
Сапгир
С чего бы вдруг? Приснился мне Сапгир,
Как будто на приеме в пышном зале.
Я подхожу. «А мы друг друга знали», —
я говорю. Но он меня забыл.
Вокруг него клубятся облака
И – наискось – златых лучей обвалы.
Да это рай! Да, рай для добряка —
поэта, объедалы-обпивалы.
В костюме, в галстуке, не на меня глядит —
На водочку на донышке стакана.
И так беззвучно говорит: Осанна!
И неподвижно в облаке летит.
Грустным эхом, печальной перекличкой здесь звучит чуть переиначенная начальная строчка из «Письма в оазис» Иосифа Бродского: «С чего бы вдруг?» («С чего бы это вдруг?»). Здесь не то чтобы возражение, а… печаль, мол, вот ведь перед уходом и поссорились, наговорил резкостей, а зачем? И «оскомина во рту от сладостей восточных» из стихотворения Бродского перекликается с сапгировским раем, «раем для поэта-добряка, объедалы-обпивалы» – разве он не заслужил рая? Сибарит и щеголь, богач и обжора – ну и что?
Лосев по праву понимал себя завершителем некоей поэтической традиции. Поэтом, который при всей своей иронии, склонности к литературной игре, занимается чрезвычайно серьезным, важным делом. Почему оно серьезно, это умелое складывание слов в поэтические строчки – словами не объяснить. Можно только очертить, обогнуть эту серьезность словами же.
Бормотание времени
(О стихах Сергея Стратановского)
Его как-то обидел критик, не отличающийся благорасположенностью к людям, Виктор Топоров. Не просто не поместил в свою антологию «Поздние петербуржцы», хотя вот ему-то там самое место, но во вводной статье к стихам его друга Виктора Кривулина, припоминая конец шестидесятых, обронил: «Прекрасные стихи писала Лена Шварц, чудовищные – Сережа Стратановский…»
На самом деле нечто верное в этом оброненном между делом, походя оскорблении было. И расположение было подобрано точно: Елена Шварц, Сергей Стратановский, Виктор Кривулин. И полюса обозначены правильно. И эпитет выбран подходящий. Чудовищные. Вообще-то не переводчику и поклоннику Готфрида Бенна упрекать кого бы то ни было в «чудовищности». По части «чудовищности» берлинский врач-венеролог и без пяти минут нацист кому угодно даст фору.
Между тем, если кто и может быть близок к «поэту Обводного канала», то это тот самый – Готфрид. Понятно, что сам Стратановский неприязненно отшатнется от вопиющего антигуманизма немецкого поэта, но вектор поэтического движения у них один и тот же. Невиданное расширение ареала поэзии? Морг, свалки, телепередача про Освенцим, прерываемая рекламой моющих средств, пивные, бомжи, овощебазы и подзаборная пьянь? Возможно, но кто только не впускал в ХХ веке в бытие поэзии низкий быт…
Нет, нет, здесь нечто другое… Может быть, откровенное, лупящее в глаза соединение этого низкого быта с мифом, с жутковатой архаикой, которой уютно здесь, в пивной среди бомжей, в загаженном почти городском лесу, на реке непрозрачной, по которой плывут презервативы и прочий сор?