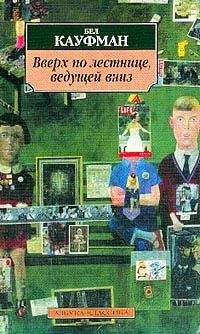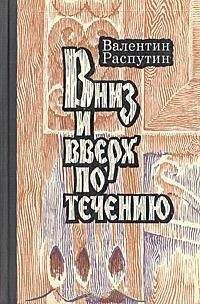Елена Холмогорова - Рама для молчания
Страх – чувство позорное, недостойное порядочного человека, во все века моралисты осуждали его и правильно, наверное, делали. Век девятнадцатый, «золотой», уже после Пушкина выдвинул постулат, на мой взгляд, сомнительный: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Век Серебряный истекал клюквенным соком, не догадываясь поначалу, что это вовсе не бутафорская краска, а реальная человеческая кровь, и прольется оный сок из тела Николая Гумилева, Владимира Маяковского, Вильгельма Зоргенфрея, Осипа Мандельштама. И сам собою встал вопрос покруче гражданского: обязан ли поэт быть героем? Собственно, знатоки и судили Юрия Олешу не как писателя, а как героя и постановили: обязан. А раз не герой – вот тебе: сдача и гибель, а книга твоя – книга распада.
А все же не дело писателя геройствовать. Его дело – слово.
Вот к слову Юрия Олеши и обратимся.Воспоминания Юрия Олеши о том, как выступал на вечере поэзии в Одессе Максимилиан Волошин, несколько насмешливы. В 1920 году Олеша был молод и к старым символистам относился с долей юношеского революционерского превосходства: в ту пору советская власть развернула перед ним полный список благодеяний, а преступления по легкомыслию принимались как неизбежные нравственные издержки в процессе борьбы за утверждение провозглашенных благодеяний, и их список еще не набрасывался. Он все ждал, когда новый строй породит нового человека – умного, красивого и до гениальности талантливого. Не дождался. В 1931 году записывает:
«К тридцати годам, в пору цветения молодости, я, как это бывает со всеми, окончательно установил для себя те взгляды на людей и жизнь, которые считал наиболее верными и естественными. Выводы, сделанные мною, могли равно принадлежать как гимназисту, так и философу. О человеческой подлости, эгоизме, мелочности, силе похоти, тщеславия и страха.
Я увидел, что революция совершенно не изменила людей…
Мир воображаемый и мир реальный. Смотря как воображать мир. Мир коммунистического воображения и человек, гибнущий за этот мир. И мир воображаемый – индивидуалистическое искусство».
И дальше:
«Литература закончилась в 1931 году.
Я пристрастился к алкоголю».
К тем же временам относится запись, начинающаяся со слов «Я не хочу быть писателем» и завершающаяся мыслью о пуле в лоб.
Мысли Максимилиана Волошина в те же дни:
«7/VII 1931 г.
Вчера за работой вспомнил уговоры Маруси: «Давай повесимся». И невольно почувствовал всю правоту этого стремления. Претит только обстановка – декорум самоубийства. Смерть, исчезновение – не страшны. Но как это будет принято оставшимися и друзьями – эта мысль очень неприятна. Неприятны и прецеденты (Маяковский, Есенин). Лучше «расстреляться» по примеру Гумилева. Это так просто: написать несколько стихотворений о текущем. О России по существу. Они быстро распространятся в рукописях. Все-таки это лучше, чем банальное «последнее письмо» с обращением к правительству или друзьям. И писать обо мне при этих условиях не будут. Разве через 25 лет?..»
Больше, чем различие в выборе средств пассивного самоубийства, поражает сходство в отчаянии. А ведь время-то еще, по хлесткому слову Анны Ахматовой, вегетарианское, и у живого пока Мейерхольда ставится спектакль по пьесе «Список благодеяний». Интересная пьеса. Список преступлений, в первозданном виде до нас не дошедший, звучит убедительней лозунгового списка благодеяний, зачитанного парижскими безработными на демонстрации. Гибель на этой демонстрации артистки Гончаровой избавляет ее от репрессий на родине. Ведь она уже осуждена, и осуждена, как водится, пресловутой тройкой. Неслучайно советских представителей в Париже именно трое, а цена их уговора – в Москве разберутся – и автору, и зрителям известна.
Собственно, в этом самом 1931 году и начинается дневник. Авторская ошибка в датировке (30 января 1930-го) – скорее всего, чисто автоматическая: в январе рука еще не привыкла к новому году. И уже в шестой строке все становится на свои места: «Зимой 1931 он (Мейерхольд) стал над ней (постановкой «Списка благодеяний») работать».
Жизнь раздвоилась. Можно сколько угодно говорить о гибели писателя, но пока из-под его пера выходит хоть строчка, он жив. А если в строчке хоть капля поэзии – он бессмертен. И строчки его рано или поздно явят миру его торжество. На поверхности социалистической действительности был кающийся интеллигент наподобие кролика, уверяющего удава в своей лояльности и готового, если получится, отказаться от кроличьей своей сути – длинных чутких ушей, врожденного вегетарианства – чего угодно. В этой маске он предстал на Первом Всесоюзном съезде писателей.
В ту пору многие интеллигенты надели маски, тайно заботясь о том, чтобы не прирастали к лицу. Пастернак прикинулся небожителем, абсолютно не ведающим, что творится за окном, а зоркий глаз тонко улавливал мир материальный, о чем этот мир с изумлением узнает десятилетия спустя. Пришвин обратился разве что не в лешего, и только потаенные записные книжки раскрывают подлинный мир этого мудрого, как змий, художника.
Маска кролика могла спасти от репрессий, но не спасала от содействия преступлениям власти – подписей под письмами трудящихся пера с расстрельными требованиями, а то и написания статей по случаю чьего-нибудь погрома. Здесь маска алкоголика, человека несерьезного и пустого болтуна, казалась надежнее. Но цена оказалась дорога: пока заботился о дистанции от маски кролика, маска алкоголика приросла к лицу.
Русскую литературу со времен Ломоносова пьющим писателем не удивишь. Публичные рассуждения об алкоголизме крупного литератора отдают подвигом Хама, это дело черни, сующей нос в дневники, чтобы увидеть гения в унижении. Пушкин ответил любопытствующим: врете, мал и мерзок, но не как вы, иначе. Писатель оставляет духовное наследие – его прижизненное пьянство, прелюбодейство, азартная игра, если сам он об этом не написал, умирают в тот день, когда умерло его тело. И не будем об этом. Но случай с Юрием Олешей – другой. Это был сознательный уход из «активной», т. е. поверхностной, литературной жизни. От него через Николая Глазкова с его знаменитым «Я на мир взираю из-под столика» пошла традиция, нашедшая абсолютное воплощение в жизни и творчестве (тут они неразделимы) Венедикта Ерофеева. Можно не разделять этой саморазрушительной идеологии, но приходится признать ее фактом русской литературы эпохи социализма.
Кстати, вполне вероятно, маска алкоголика и спасла Юрия Олешу от физического истребления: НКВД выбивало показания против него и накопило солидное досье. Сжалились над ним отнюдь не по доброте. Сталинский режим, неоднократно пускавшийся в кампании борьбы с пьянством, на деле к этому пороку был весьма снисходителен: правящей черни приятно видеть великого человека на дне самого передового общества.
Была еще одна выгода от такой маски. В пору тотальной диктатуры мало увернуться от политики кнута: надо еще устоять от соблазна и уклониться от политики пряника, не менее преступной и коварной: она развращала. Она губила талант на корню. Рука выписывает гимны, а душа, так обнадежившая в дебюте хотя бы такой на зависть всем обэриутам строчкой: «А у нас сегодня кошка родила вчера котят», – мертва. И еще большой вопрос, под какой маской состоялся распад личности: пьяницы или трезвого гимнопевца?Итак, двадцатилетний Юрий Олеша распростер объятья призраку. И ценой очень дорогой: он расстался с родителями, эмигрировавшими в Польшу. «Мне было двадцать два года, я плакал, я был молодой, без денег, без профессии, – я остался один, совершенно один в стране, проклятой моим отцом». Лишь десятилетие спустя он поймет, что перед ним в тот день захлопнулась мышеловка: «В день двенадцатилетия революции я задаю себе вопрос о себе самом. Я спрашиваю себя: ну, русский интеллигент, кем ты стал? Что стало с тобой?
Мне тридцать лет. Когда произошла революция, мне было восемнадцать. Тот аттестат зрелости, который получил я, еще был припечатан орлами. В последний раз выдавались такие аттестаты. В последний раз заказывали студенческие фуражки. Никто еще не знал, что раз этот – последний». Через несколько дней: «Теперь, когда прошло двенадцать лет революции, я задаю себе вопрос: кто я? кем я стал?
Я русский интеллигент. В России изобретена эта кличка. В мире есть врачи, инженеры, писатели, политические деятели. У нас есть специальность – интеллигент. Это тот, кто сомневается, страдает, раздваивается, берет на себя вину, раскаивается и знает в точности, что такое совесть, подвиг и т. п.
Моя мечта – перестать быть интеллигентом».
Но это мысли из эпохи обещанного «светлого будущего», а тогда, в двадцатом, многие интеллигенты, принявшие революцию, бредили мечтами о новом человеке. В Политехническом читались лекции о синтезе плоти и духа как основном качестве социалистической личности, о единении города и деревни в культуре сияющего завтра и проч. Даже Гражданская война мало чему научила: ее изуверства, неизбежные в любой войне, прощались ради этого самого сияющего завтра. Ожидали, что вот порабощенный народ скинул своих угнетателей, и теперь из каждой рыбацкой хижины выскочит новый Ломоносов. Но победа сил, которым сочувствуешь, не гарантирует осуществления благих намерений, заявленных в их очаровывающих лозунгах.