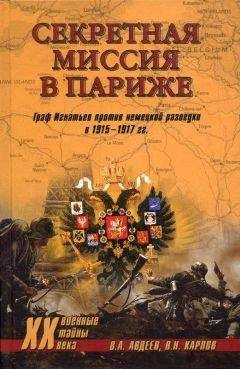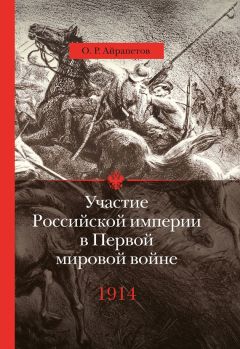Александр Рекемчук - Мамонты
Анна Чинарова, тоже вернувшаяся с войны.
Таким образом, к моменту, когда их соединила любовь, когда они скрепили эту любовь узами законного брака (согласно документам, это произошло в Одессе), когда они сфотографировались на память, но порознь — их фотографии вдвоем я не встречал, — к этому моменту им, еще столь молодым, наверняка казалось, что все ужасы доставшегося им нового века — революции, войны, катастрофы, — что всё это уже позади.
Между тем, всё только начиналось.
И покуда я разглядывал присланные мне из-за границы фотографии, которых я, совершенно точно, никогда прежде не видел, — меня, тем не менее, не оставляло странное ощущение того, что я их уже видел, что видел и раньше.
Где? Когда? Что за чушь?
Я мог бы предположить, что в моей стариковской башке за долгую жизнь накопилось так много еще непроявленных моментальных снимков, мгновенных фиксаций памяти, что они уже сами по себе, помимо моей воли, начинают искать друг друга, сличать изображения, сами выстраивают цепочки и, что-то найдя, сами же начинают сигналить мне, колотить по мозгам: эй, дед, ты слышишь? Ты чуешь? Пляши! Нашлось…
Примерно так всё обстояло, когда я вышел на связь.
Когда я уловил точки совпадения между только что увиденными фотографиями — и строками книги, которая вновь оказалась в моих руках.
Или же наоборот: в моих руках опять был «Юношеский роман» Валентина Катаева, который притащил из библиотеки студент Егор, — и я, завершив семинар, уже дома, начал ворошить страницы книги, — и строки совпали с ликами на фотоснимках.
«…Вглядываюсь. И вдруг, к своему крайнему изумлению, узнаю в пехотном подпоручике своего бывшего гимназического товарища Мишку Подольского, который еще в прошлом году бросил гимназию и поступил в военное училище, выпекавшее за четыре месяца пехотных прапорщиков. Теперь он уже дослужился до подпоручика, на его шашке болталась красная лента темляка ордена Анны четвертой степени, так называемая клюква, и он даже, ввиду большой убыли пехотных офицеров, уже командовал ротой».
Я спорю сам с собой.
Если он имел в виду — хотя бы образно — моего отца, то зачем назвал его столь далекими от прототипа именем и фамилией: Мишка Подольский?
Допустим… Но тогда зачем он в «Юношеском романе» назвал самого себя не Валентином Катаевым и даже не Петей Бачеем, как в «Парусе», а Александром Пчелкиным? Разве это по звучанию, по смыслу — близко? Да ничуть.
Мишка Подольский ушел на войну из гимназии, а мой отец — из семинарии. Как мог он быть его «гимназическим товарищем»? Не мог.
И почему в этом тексте фигурирует уже не школа прапорщиков, о которой он мне говорил, и не юнкерское училище, о котором писал, а некое военное училище, будто бы прямо из советских романов сороковых годов?..
И — наконец: в чем был его интерес к этому Мишке Подольскому, если он — всего лишь проходной персонаж, который не были ни его закадычным другом, ни фронтовым товарищем, ни даже соперником в любви?..
Вообще, этот Мишка Подольский со своей «клюквой» на шашке появляется ближе к концу романа. Зачем? Где еще? Какова его роль?
«…Ночью бой, в котором Мишка убит, о чем я узнаю от раненого пехотинца Аккерманского полка, бредущего по шоссе в полевой госпиталь».
Я мысленно снимаю шляпу. Вот: только что появился — и уже убит.
Еще дальше отодвигается начальная версия, предположение о том, что в Мишке каким-то образом запечатлен мой отец.
Ведь мой отец не был убит на войне. Его убили позже.
Знал ли Катаев о том, что его товарищ по школе прапорщиков погиб такой страшной смертью?
Наверняка знал. Иначе бы не подступался ко мне со своим участием.
Но что там дальше — в «Юношеском романе», составленном из писем к девушке Миньоне? Она вернула ему эти письма уже на склоне лет. И он перечитывает их, как я перечитываю его книгу.
Мой взгляд соскальзывает в конец той же самой страницы, где только что убили Мишку Подольского. И замирает вновь.
«…Прочитав эти строки, я сначала поморщился, а потом рассмеялся, вспомнив, как однажды, вскоре после революции, в толпе гуляющих… вдруг нос к носу столкнулся с убитым Подольским, который уже без погон и с красным бантом на груди, зажатый фланирующей толпой, вел под руку сестричку милосердия в косынке, едва прикрывающей кокетливую челку над широким крестьянским лбом с двумя вертикальными морщинками и подкрашенными бровками в шнурок».
Мой отец и Анна?
Он знал и Анну?
Портрет далек. Хотя через весь его «Юношеский роман» проходит образ девушки, в которую был влюблен Саша Пчелкин. Он (то есть я)…
Нет, это не Миньона, та была для писем.
А ту, которую он любил безумно — ее звали Ганзей Траян.
Именно ей, Ганзе Траян, посвящены самые поэтичные строки книги, восходящие в своем звучании к античному эпосу.
«…О золотом веке пел поэт-изгнанник, наступая старыми, разношенными сандалиями на сизую полынь, растущую по склонам Траянова вала. Но почему в моем воображении рядом с ним шла девочка-подросток, маленькая гордая римлянка-изгнанница? Может быть, она была его дочерью? Но тогда почему же она носила имя Траяна? Она была Ганзя Траян, о которой я не забывал ни на минуту и которая всегда скромно светилась в зените на недостижимой высоте, как еле заметная Полярная звезда — вечная и единственная.
Судьба привела меня наконец к Траянову валу, где я решил умереть, как скиф, отвергнутый римлянкой».
Что общего может быть между Ганзей и Анной?
Разве что имя. Ведь оно произошло от древнееврейского имени Хана, которое живет в украинском обиходе как Ганна, уменьшительно и ласкательно — Ганзя.
Фамилия? Анна жила в Аккермане на улице Strada Trajan, на Дороге Траяна, именно там был дом Чинаровых.
Не слишком ли смелые сдвиги?
Сам покачиваю головой.
Но зачем тогда автору было столь уж необходимо — позарез, — чтобы именно я прочел его «Юношеский роман»?
Может быть, он хотел именно на мне испытать, проверить старый фокус, который называется эффектом узнавания?
Это когда играется на сцене, на экране, либо пишется на бумаге некий условный образ героя, какого не было и нет в реальной жизни, который выдуман от начала до конца, но вот — он появляется, и все вдруг в один голос начинают уверять, что знали его лично, даже за руку держались, даже пили на брудершафт! — а хитрый автор усмехается в душе, радуясь, что так ловко сумел провести доверчивый люд.
Или же совсем наоборот: когда автор пишет конкретного человека, которого сам знавал близко, но всё же, на всякий случай, наделил его другим именем, вымышленной фамилией, — и вдруг оказывается, что все узнают в нем самих себя. Что это — про всех, про всех на свете!
Надеюсь, что и в том, и в другом случае я выдержал испытание, оправдал надежды Валентина Петровича — я узнал всех.
Однако цель его могла быть и совсем иной.
Вполне возможно, что в урочный час — уже на исходе объявленных им самим пятнадцати минут, — он решил напомнить мне, что в этой занудной, выматывающей душу, худо оплачиваемой писательской работе есть одна важная привилегия: что творец, сколь мал он ни будь, порой уподобляется тому Творцу, которого пишут с заглавной буквы, и в этом качестве он властен — мановением руки, росчерком пера! — воскрешать мертвых, возвращать к жизни своих героев — умерших, убитых, подобно Мишке Подольскому, подобно моему отцу, — или попросту забытых на время.
И еще я допускаю, что он — после долгих раздумий, перебрав всю колоду, всю кодлу, — решил именно мне завещать ту науку, в которой не знал равных: всю ночь напролет, до рассвета, без сна, ворочаться в постели, словно бы на краю вечной пропасти времени и пространства, сердито сминая подушки, будто бы разгребая завалы своей и чужой памяти… Но это уже из другой его книги.
Пир в Одессе после холеры
Симпозиум
Осенью 1970 года я приехал в Одессу на международный симпозиум.
Поначалу я хотел снабдить эти страницы своей книги броским заглавием «Симпозиум и пир», имея в виду, что все подобного рода мероприятия завершаются непременной коллективной пьянкой, иначе это не симпозиум, а черт знает что, недоразумение.
Но, заглянув на всякий случай в словарь иностранных слов я с крайним удивлением обнаружил, что слово «симпозиум» само по себе означает именно пьянку:
«Симпозиум (букв. пиршество)… у древних греков и римлян — пирушка, часто сопровождавшаяся музыкой, развлечениями, беседой…»
И лишь во втором своем значении это слово подразумевало ученый разговор.