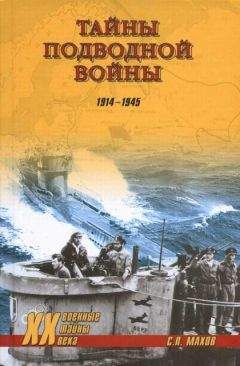Иштван Барт - Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа
Так или иначе, во вторник, около восьми утра, когда оба кандидата на роль коронных свидетелей, ничего не подозревая, являются в Майерлинг, Рудольф встречает их в халате (и, как мы знаем, с завязанным горлом). Ночь он провел в Майерлинге. Однако обоим гостям бросилась в глаза некая подробность: "Когда показался замок, князь тотчас заметил и обратил мое внимание, что на окнах со стороны подъезда и ворот спущены жалюзи и у замка совершенно нежилой вид". (Вероятно, у гостей, прибывших с баденского вокзала в наемной карете, даже мелькнула мысль, что зря они проделали весь путь, наследника, наверное, и нет в Майерлинге. Ведь он так странно ведет себя последнее время!)
Спущенные жалюзи, скорее всего, свидетельствуют о последней попытке Рудольфа ввести в заблуждение инспектора Хабрду. Кстати сказать, принц запретил местному жандармскому посту рапортовать, как положено, по начальству о его прибытии. И перед замком, вопреки предписанию, не был выставлен вооруженный караул. (Ведь Рудольф, подобно каждому монарху восьмидесятых годов, постоянно опасался покушений — кинжала или бомбы анархистов.) Но в Майерлинге даже не привели в действие установленный телеграфный аппарат — также по решительному указанию Рудольфа. (Хотя телеграфист, как мы знаем, описывал эти события иначе.)
После таких мер предосторожности наследник, надо полагать, пребывал в уверенности, что ему удастся — насколько это вообще возможно в его положении — сохранить место своего пребывания в тайне. Он мог рассчитывать, что максимум на сутки его оставят в покое. Но что можно сделать за одни-единственные сутки?
"Сразу по приезде, — продолжает граф Хойос свою вымученно-пространную отписку, цель которой доказать, что ему ничего не было известно о намерении Марии и Рудольфа, — мы прошли в так называемую бильярдную комнату, которая находится на первом этаже, справа от входа, где, как сказали, мы будем завтракать. Минут через пять-десять появился наследник в утреннем облачении, радушно приветствовал нас и сел вместе с нами к столу. За завтраком он рассказал, что сильно простудился и со вчерашнего дня опасается, как бы дело не кончилось серьезной болезнью, поэтому лучше ему воздержаться от охоты, тем более что в окрестности Гласхютте, где мы собирались охотиться, пришлось бы карабкаться по крутому склону. Тот же совет дал ему и Лошек. Завтрак тем не менее прошел в веселом настроении, а затем наследник проводил нас традиционным шутливым напутствием "ни пуха ни пера", и на охоту мы отправились вдвоем с князем Кобургским…"
Тем временем в соседней комнате баронесса Вечера (присутствие которой должны были маскировать двое приглашенных гостей, ни сном ни духом не ведавшие о пребывании Марии в замке до тех самых пор, пока сутки спустя не увидели ее — уже мертвой)… да, что же делает семнадцатилетняя Мери, чем занята она поутру, после первой их совместно проведенной ночи? Просто лежит на широкой, орехового дерева кровати (на полу отороченные лебяжьим пухом домашние туфельки, сброшенные хозяйкой накануне вечером) и играет бантом новехонькой ночной сорочки? Или разглядывает потолок при свете пятисвечового канделябра? (Окна маленькие, комната просторная, но сводчатые потолки низкие, а в конце января в эту пору едва светает.) Счастлива она? Или предается отчаянию? А может, думает о том, что теперь обратного пути нет? Или же сладостное опьянение пока еще не утратило своей силы? Возможно, барышня строит планы, как им с Рудольфом получше провести сегодняшний день? Ей приходит в голову, что дома ее уже разыскивают; не нападут ли на их след, прежде чем они успеют осуществить свой план (если таковой вообще существует)? Неужели она ни на миг не приходит в ужас от задуманного? По-прежнему ли ее подогревает страсть или сейчас, свинцовосерым холодным утром, бьет озноб? А как неуютно выглядит эта комната, совсем иначе, нежели накануне вечером, когда желтоватый отблеск свечей, разгоняя бархатисто-мягкий полумрак, навевал страстную истому! При свете утра наверняка угнетающе действует окружающая обстановка, мрачные обои цвета бутылочного стекла, сплошь испещренные желтыми арабесками. Дом редко отапливается, стены источают леденящий холод, печь, вчера бодрившая и разгонявшая кровь своим жаром, сейчас чуть теплая и отрезвляет своим безразличием. А может, Мария тоже завтракает? Это ли не разочарование, это ли не досада — после первой совместно проведенной ночи любви завтракать в одиночку? (Или Рудольф в тот день завтракал дважды?) И кто подавал ей завтрак? Лошек, преданный слуга, посвященный в их тайну, был занят обслуживанием господ. Уж не та ли безвестная Кати, которую "засек" бдительный инспектор Хабрда? Возможно, она вовсе не была судомойкой, а горничной, специально отряженной, чтобы прислуживать Марии? Выходит, без горничной, лакея, новой ночной сорочки и туфелек из лебяжьего пуха и умереть нельзя? А может, молодые люди и не собирались умирать? Да и допустимо ли наследнику умереть ради одной ночи любви? Или ему — им — пришлось умереть ради чего-то другого? Может, все получилось случайно? Но если они отправились в Майерлинг, не имея намерения умереть там, то к чему были все эти сложные приготовления, наивные уловки? Ведь в конце концов Рудольф все же выпустил пулю, которую после долгих поисков обнаружили застрявшей в деревянной стенке красивого резного ночного столика! Кстати, а куда девалась другая пуля — предназначенная для Марии? Или был произведен лишь один выстрел, да и тот не из револьвера Рудольфа? Но тогда из чьего же?
Увидим.
Нам надо бы поскорей вернуться к торжественному семейному ужину, однако пока еще не получится: теперь действие развертывается одновременно по нескольким линиям, события сгущаются. Мы приближаемся к развязке; влюбленным осталось жить неполных двадцать четыре часа.
*Прежде чем перенестись в Вену и увидеть, какое впечатление вызвал рассказ князя Кобургского о "простуде" Рудольфа, неплохо бы подытожить, что же нам известно о событиях этого дня (последнего!).
Знаем мы, насколько может судить читатель, почти все — подробно, до мелочей, за исключением немногого, зато существенного. К примеру: как коротали время влюбленные начиная с той минуты, когда Рудольф веселым напутствием проводил обоих гостей на охоту и возвратился к Марии, которая, наверное, еще дремала? Все, что происходило в Майерлинге с этого мгновения и до следующего утра, тонет в непроглядном зимнем сумраке.
Возможно, Рудольф и Мария писали письма. Прощальные?
Один из лесничих, некий Рашек, когда к нему приступили с расспросами, действительно вспомнил, что Лошек передал ему несколько писем для отправки по почте. Но кому они были адресованы, "я не посмотрел". В 1923 году в печати появился текст письма — адресат его неизвестен, — которое могло быть написано лишь в то утро. Разумеется, если письмо подлинное, хотя в данном случае дело похоже на правду. А если это так, если письмо действительно написано рукою Рудольфа, то мы получаем надежное подтверждение тому, что самое позднее к утру вторника — по какой бы то ни было причине — судьба влюбленной пары была решена. Вот что мы читаем в этом письме:
"С каким наслаждением я бы излил тебе душу! Но время страшно подгоняет — времени осталось совсем мало, и я должен получше использовать его. М. сидит подле меня, ее безмятежная радость передается и мне. В эти минуты я счастлив. Шлю сердечный привет. Р.".
Вне сомнений, это письмо прощальное. Недурно бы знать, кому оно адресовано и почему его не оказалось среди прочих прощальных писем. Во всяком случае, человек, пишущий эти строки, знает, что собирается умереть, но прежде, чем нажать на курок, ждет еще почти целые сутки. Спрашивается, чего же?
Вряд ли он дожидается своих компаньонов по охоте, которые между тем, закутавшись в пледы, несмотря на снегопад, терпеливо сидят на охотничьей вышке, но за все утро никакая дичь им так и не попалась.
А в Вене, примерно в то время, когда господа заняли свои места в засаде, шеф полиции барон Краус уже находился у себя в канцелярии и читал одно небезынтересное письмо. Его накануне вечером доставила горничная графини Лариш. Начальник полиции так и пометил на конверте, приписав, что он лично вскрыл конверт лишь в половине десятого утра, тем самым желая подчеркнуть, что, каково бы ни было содержание письма, он не имел возможности накануне учесть полученные сведения. Если бы, не дай бог, что-нибудь случилось (о чем барон в данный момент пока еще не знает), он никоим образом не несет ответственности.
Барон Краус скрепил подписью начертанные на конверте карандашные строки, затем взял перочинный нож, поддел острием заклеенный уголок и решительным, но вместе с тем осторожным, точно рассчитанным движением вскрыл конверт. Наверняка он сразу же узнал неровный почерк графини, ведь то было не первое письмо, полученное от нее в эти дни главою полиции.