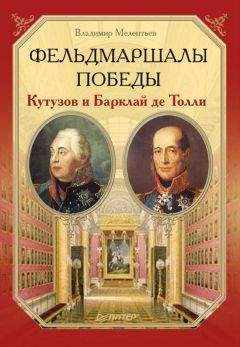Александр Гольдштейн - Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
Это биологически предуказанный удел художественной генерации, привычно стартующей союзом втиснутых в тощий паек честолюбий, но корень отщепенского группового призыва неизбежно расслаивается на отдельные волокна и нити, и далее каждый бредет в одиночку, стремясь уяснить, что именно в памятном прошлом обусловило счастливую или горемычную странность пуги.
В независимом московском искусстве 60–70-х годов Владимиру Янкилевскому принадлежала одна из непререкаемо ведущих ролей. Сделанное им поражает размахом и тщательно выверенным исступлением, когда изящество формальных решений лишь углубляет оргиастический (в старом, обрядовом значении слова) пафос задания. Профессиональный анализ его работ автору этих строк, не обладающему ни академической выучкой, ни специально настроенным зрением, к сожалению, недоступен, и он вынужден ограничиться дилетантскою констатацией, что от картин и объектов исходят стойкие излучения справедливости, мощи и прихотливого совершенства; эманации подобного рода, впрочем, наделены самостоятельной силой внушения, обходящейся без комментаторских линз и лекал. Человек определенного места, среды, поколения, художник сберег триединый опыт этих истоков и развил его в Нью-Йорке, а затем и в Париже, городе нынешнего своего пребывания, — споря с теми, в чьем обществе начинал, сохраняя привязанность к ним. Генерация поредела, рассогласовалась, распалась, но ее абрис остался, и исчезновение ему не грозит.
Знакомство мое с Владимиром Янкилевским ограничилось временем тель-авивского интервью и несколькими часами менее строгого разговора, однако и этого срока хватило, чтобы ощутить в собеседнике то безуклонное сосредоточенье на главном, что спокон веков почиталось стержнем призвания, его безвыходным кодексом, одержимой традицией и непогрешимым каноном.
— Созданные вами образы, на мой взгляд, претендуют быть не только реальностью вашего воображения, но и настаивают на объективности своего бытия. Откуда они являются к художнику Янкилевскому? Он их придумывает или они существуют в не зависящих от его фантазии участках реальности? Говорят же сторонники логико-математического платонизма, что математики не изобретают свои конструкции, но их открывают, подобно тому, как естественники открывают законы природы.
— Буквально ответить на такой вопрос невозможно, поскольку нет черты, разграничивающей две формы проявления этих образов, но для меня всегда была важна не внешняя окончательность процесса, а то, что происходит между элементами картины, в системе ее промежуточных связей. В пределе я могу взять любые заданные мне конечные формы, дабы затем создать именно те отношения между ними, которые выразили бы мое внутреннее жизневосприятие. Образы, складывающиеся в моих вещах, по своему происхождению дуалистические: с одной стороны, мне почти все равно, откуда они пришли, с другой — они мною лично и близко прочувствованы, они имплицитно во мне содержатся, так что иногда я их вижу во сне, а порою на улице, сознавая, что никому более в этот момент они не заметны. Так было, например, с элементами графической серии «Мутанты», когда я вдруг увидел своих персонажей, но чтобы конечные образы не превратились в анекдот, а стали частицами универсума, между ними и другими элементами потребовалось создать то взаимодействие, то поле, которое, собственно, и несло в себе жизнь, как я ее чувствую.
— Глядя на ваши работы, густо населенные чудовищами и животной машинерией, я вижу вас исполняющим обязанности странного монотеистического божества, насаждающего вавилонские или ацтекские капища, а также соприродные им языческие формы существования…
— А почему языческие?
— По ощущению. Они какие-то множественные, децентрованные, их словно еще не подчинили генеральной идее, возможно, насильственной…
— Они не множественные. Мой мир слагается из нескольких компонентов, образующих нечто целое, в этом смысле он монотеистичен. Иное дело, что он заключает в себе оппозицию универсальных начал, мужского и женского, которые, взаимодействуя через соединительную среду, и составляют его целостность. Проникновение же в мои работы элементов архаики, внешне напоминающих ацтекские, вавилонские или какие угодно иные, было довольно случайным: я не копировал древние образцы, не подражал им, а занимался другим, выясняя, где проходит граница между живым и мертвым. Осмысливая, что такое живое и чем оно отличается от мертвого, я понял: делая голову или портрет, собираясь сообщить им жизнь, не надо имитировать элементы, которые литературно воспринимаются как живые. Например, нечто треугольное с двумя дырочками, похожее на нос, — это как бы уже и нос. Для меня это было не носом, а мертвой схемой, нос для меня — процесс дыхания, глаза — взгляд, уши — слышание, голова — процесс мысли.
Пытаясь воспроизвести эту жизнь и выработать динамичную, пластическую систему, где бы все нашло свое место и обрело контакты с визуальной реальностью, я неожиданно пришел к созданию образов, похожих на архаические, и до меня вдруг дошло, что это и есть путь, которым неизменно следовали художники, в особенности древних времен: тогда не имитировали реальность, а стремились выразить жизнь, и получались негритянские маски, получались… в общем, вы понимаете. Что бы я ни делал потом, всех этих монстров, чудовищ, я руководствовался найденным принципом, и возникали персонажи абсолютно для меня живые, но вместе с тем архаичные; уже после я понял, что архаика лежит в основе любого искусства, будучи его скелетом, подчас невидимым. Архаика есть подлинное переживание бытия, как только искусство его утрачивает, оно перерождается в имитацию внешности, в маньеризм и салон. Каждый этап искусства связан с прохождением этих двух фаз: возьмите Раннее Возрождение, выродившееся в маньеризм, или авангард, ставший салонно-коммерческой деятельностью, что мы сейчас наблюдаем. Но искусство, содержащее элементы архаики, — оно остается, ибо приобщено к глубинному измерению колодца времен, о котором писал Томас Манн, его нельзя имитировать, нельзя ничем заменить.
— Критерии разграничения живого и мертвого были вам свойственны изначально или они возникли в процессе работы? Рильке говорит в одной из «Дуинских элегий», что ангел не различает между живым и мертвым, и если это действительно так, значит, ваш способ не ангеличен, он человечен? Или это способ художника?
— Трудно сказать, знаю лишь то, что имитация внешности есть одномерность, настоящее произведение искусства представляет собою структуру с несколькими слоями, и слой внешнего подобия, актуального соответствия исчезает вместе с актуальной реальностью. Связанные же с архаикой глубокие слои, по моему убеждению, равнозначны для людей разных времен, рас и социального опыта, они универсальны. Одномерность — модель смерти, многомерность — модель жизни, поэтому все мои манекены, эти имитирующие реальность объекты в шкафах, являются выражением смерти, тогда как то, что мной создано в качестве художественного переживания, не воспроизводящего внешние формы реальности, — суть элементы живые. Живое выходит за рамки объекта, мертвое, напротив, не излучает. Чем страшен труп? Вроде бы все с ним в порядке, его можно подкрасить, но страшен он тем, что не излучает, а живое простирается за собственные пределы, существуя как излучающая энергия взгляда, энергия мысли, общения. Вот эту разницу я пытался понять как фундаментальный принцип, отсюда вышли многие мои работы.
— В таком случае, что для вас излучает, что остается живым в искусстве двадцатого века и какие художественные феномены, некогда славные и значительные, омертвели?
— Остались, конечно, Ван Гог, Пикассо, Макс Эрнст, Магрит, Фрэнсис Бэкон. Все это сфера жизни, глубинных слоев, сфера архаики, и мысленно я могу переместить их туда, где находятся Джотто, Пьеро делла Франческа или египетская скульптура, они будут одинаково мощно звучать. Но я не могу представить там позднего Раушенберга…
— Персонально Раушенберга или целиком поп-артовскую идеологию?
— В начальном поп-арте было много довольно живых вещей, но он очень быстро выродился, коммерциализовался; я видел большую их выставку и подумал: как жаль, что это ретроспектива, отдельные работы были гораздо сильнее, а контекст обнаруживает деградацию, нет ни наполнения, ни новых идей, сплошная коммерция.
— Ваши слова о коммерции поп-артисты восприняли бы как комплимент: ведь в их программу входили успешные операции с формами и материей общества, с его мифами и символическими субстанциями, в том числе с денежной массой, это было для них свидетельством чисто художественной силы, подчиняющей себе социальный мир.
— Их программа, тем не менее, выходит за рамки искусства. Они могли поставить перед собой любую задачу — стать чемпионами, суперстарами, что, однако, не значит быть хорошими художниками. Это конформизм, удачно адаптированный к социуму и работающий в области его интересов.