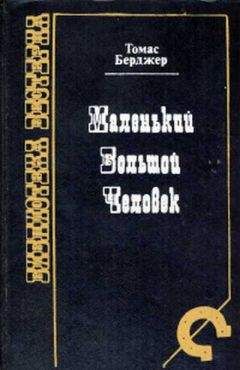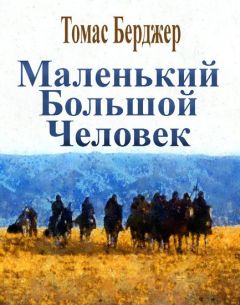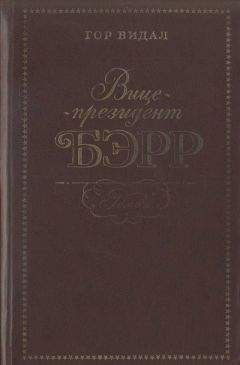Томас Берджер - Маленький Большой Человек
Он стоял, неподвижно уставившись на бочки, и, казалось, буравил их острыми зрачками. Какое-то время я наблюдал за ним, но потом мне стало как-то не по себе: внезапно я вспомнил, где встречал подобные застывшие взгляды. И место, где это происходило, приятным не назовешь: там содержались дебилы, недоумки, умственно-неприкаянные и душевно-отчаявшиеся люди. Мимо меня пробежал некий солдатик, так я живо ухватил его за рукав и стал кивать на это жуткое создание; индеец, даром что был замухрышка замухрышкой, а внушал, знаете ли, животную тревогу за собственную жизнь. Ах, этот! – слишком громко, на мой взгляд, отрапортовал солдатик.- Это, приятель, не кто иной, как сам Кровавый Тесак, собственной персоной! Да ты не бойся,- заметив мои опасения хмыкнул он.- Тесак индеец смирный, на своих не бросается! Пока не выпьет. Ну, а выпьет – тут уж держи ухо востро – напрочь дурной делается, по пьянке любимую жену зарежет! Ты не гляди, что он неказист с виду, он, между прочим, лучший разведчик и любимец самого Крепкого Зад-д-д… На слове «зада» солдатик поперхнулся, видать, сообразил, что поскольку я в штатском, то могу оказаться кем угодно, вплоть до генеральского меньшого брата Бостона Кастера или, опять же, его племянника Армстронга Рида; оба они ошивались по лагерю и оба непонятно зачем. Так что солдатик ещё пару минут кашлял, прежде чем, наконец, решился доложить, что Кровавый Тесак является лучшим разведчиком и любимцем «самого крепкого и зад-д-диристого ква-ква-квалерийского полка под командованием славного генерала Кастера».
С чем я его поздравил и отпустил. А вот грязный и замусоленный Кровавый Тесак меня не на шутку заинтересовал. В любом случае, пока он был трезв (а я надеялся, что это его состояние сколько-нибудь да продлится), он мог оказаться чрезвычайно полезен для моих начинаний. Очень кстати я припомнил, что по негласным правилам индейцам строжайше было запрещено пить на «белой» воинской службе, тем паче – вместе с белыми, а уж за потворство индейскому алкоголизму можно было лишиться патента, нашивок, да и вообще – нажить себе кучу неприятностей. Поэтому, сколько бы Тесак ни торчал у бочек, как бы ни клянчил и не канючил, как бы не намекал взглядами, жестами и телодвижениями на свою жгучую жажду, шансов у него не было никаких. В какой-то момент осознание горькой правды осенило. даже его одурманенные мозги: взгляд потух, плечи опустились, и он пошёл прочь – вид у него был такой, словно на трезвую голову ему довелось побывать на. похоронах у той самой горячо любимой жены, которую, по словам солдата, он сам же и зарезал.
Вот тут-то, в годину его отчаяния, когда, казалось бы все рухнуло, все потеряно, откуда ни возьмись, появляюсь я и жестами показываю, что готов принять участие в его дальнейшей судьбе.
Моя личина у маркитанта возражений не вызывает, без помех заполнив у него флягу, я двинулся с Тесаком за пределы лагеря.
Не знаю как там сейчас, а раньше долина Паудер была сплошь изрезана оврагами, что создавало бесчисленные возможности для доверительной дружеской беседы. Полазив среди густых зарослей полыни и чертополоха, мы подыскали приятное местечко, достаточно укромное для двух человек и… одной гремучей змеи. Гремучка обнаружила свое присутствие, когда он отошёл пописать, Тесак вовсю косился на меня (чтоб я не объехал его с дележкой) и, соответственно, не уследил за направлением струйки. Как мне послышалось, гремучка шикнула на него самыми последними словами, на что Тесак ответил ей тем же, и на том они благополучно расстались. Черт его разберет: может, знал он что-то особенное, может – не сезон, а может, как говорится, и не судьба, но, в моем разумении, в девяноста девяти случаях из ста последнее слово должно было остаться за ней… Ну, а Тесак, облегчив пузырь (на предмет, чтобы больше влезло), великодушно предложил мне воспользоваться отвоеванной территорией, ибо, как он пояснил знаками, змей в округе много-много, видимо-невидимо,- столько, сколько солдат у Кастера.
Поблагодарив его за любезность, но не желая уходить в сторону от цели нашего рандеву, я отклонил приглашение и протянул ему флягу, к которой он тут же и припал, да так жадно, будто и вода в ней была не огненная, а самая обычная, из ручья. Только к середине фляги (а она у меня большая, полведерная) тесаковы щеки пошли бурыми пятнами, лоб покрылся мелким бисером, а из-под воротника полезли местные насекомые, ошарашенные подз-абытой дозой алкоголя.
– Ну, и что собирается делать Длинноволосый? – спрашиваю я напрямик, помогая себе пальцами.
В ответ послышалось ещё несколько бульбушек. Но потом, сообразив, что я в языке ри, прямо скажем, ни бе, ни ме, а только шевелю пальцами, Тесак отвлекся от упоения и, опять же пальцами, изобразил, что Длинноволосый постригся. И покачал головой.
Я показал, что мне это известно и пожал плечами: мол, что с того, если человек удачливый? Но Ри был не согласен: он даже не покачал, а затряс головой и волосы вороновым крылом упали ему на глаза. Я заглянул в них и без слов прочитал все, что он хотел сказать. «Кастер умрет» – вот что сказали мне его глаза.
Белому, наверное, так до конца и не понять этой смиренной индейской обреченности перед неизбежным или тем, что он считает таковым – для этого нужно родиться индейцем; но если уж тебя угораздило появиться на свет где-нибудь за вигвамом, то можешь быть уверен: тебе уготована судьба, полная, пусть даже самых неожиданных, самых невероятных, но… предопределенных событий; искусство состоит в том, чтоб суметь увидеть приметы этих будущих событий в настоящем. Тот же волос для индейца – не просто волос, а и некая связующая нить между прошлым и будущим, и скальп для него – не просто воинский трофей, а нечто неизмеримо большее…
Подобно тому, как охотник по единому следу «вычитывает» зверя, индеец по скальпу «вычитывает» человека, его прошлое, настоящее и будущее, его жизненную силу и способность победить в бою.
Скажем, воин, у которого вследствие болезни выпала хоть часть волос, больше не воин, ибо жизненных сил в нём ровно настолько, насколько в скальпе осталось волос; и уж, естественно, такой скальп не украшает пояса настоящего мужчины: что за доблесть победить слабого и бессильного? И если, допустим, индеец встретит белого, утратившего шевелюру в силу естественных причин, он сразу решит, что перед ним либо трус, либо подлый обманщик, нарочно обривший голову в каких-то задних, непостижимых для бедного индейца целях; следовательно, человек сомневается, что может победить в честном бою, если сомневается – значит, на то есть основания; а раз есть основания, то именно в честном бою ты его и победишь. Главное – избежать подвоха.
Так или примерно так рассуждал, а, вернее, даже не рассуждал (потому что и рассуждать-то было нечего) мой обреченный собутыльник. Я говорю «обреченный», потому как и сам он чувствовал себя таковым.