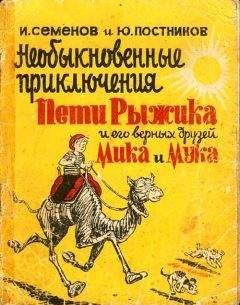Рувим Фраерман - Жизнь и необыкновенные приключения капитан-лейтенанта Головнина, путешественника и мореходца
— А по-твоему выходит — лошадью. Голова ты китовая! И оба весело смеялись.
Ночью поднялся сильный ветер. Волны издавали такой яркий, фосфорический блеск, что гребешки их сверкали, как расплавленный металл, и пена, отбивавшаяся от носа шлюпа, при скором ходе его, бросала сильный отсвет на паруса.
— Завтра будем проходить устье Ла-Платы, — объявил Головнин. — Там водятся черепахи столь великие, что их меньше как вчетвером не поднять. Тихон, хочешь черепахового супа? — спросил он у Тишки при общем хохоте матросов.
На что Тихон смиренно отвечал:
— И-и, батюшка Василий Михайлович, ну их к богу. До сих пор вспомнить тошно.
Черепахи действительно оказались на своем месте. Но, кроме того, и вода здесь была гораздо светлее океанской и мутнее. На поверхности ее носилось много хвороста и морской капусты, сорванной морем с камней. И волнение здесь было сильней и беспорядочней.
Во всем этом сказывалось влияние реки Ла-Платы, хотя шлюп в этом месте проходил на расстоянии ста пятидесяти миль от ее устья.
Стали показываться огромные стаи морских птиц. Появился густой туман, впервые после Кронштадта.
По мере продвижения на юг начинало сильно холодать. Пришлось одеваться теплее.
Некоторые молодые матросы недоумевали:
— Что же это такое, братцы? Идем на полдень, а с каждым днем все холоднее. Может, уже к Камчатке подходим?
Однажды поутру заметили под ветром пять судов-китобоев, занятых охотой. Вся команда шлюпа высыпала на палубу. Головнин велел подойти вплотную к судам, полагая, что это английские китобои, через которых можно будет отправить донесение и почту в Петербург. Но суда оказались североамериканскими.
С «Дианы» можно было наблюдать, как они охотятся на китов. Это было зрелище весьма заманчивое, коему завидовали смелые сердцем русские моряки.
Шлюпки с китобоями бесстрашно бросались на китов, которые могли их опрокинуть одним движением плавника. Но китобои подходили вплотную к морским великанам и стреляли в них гарпунами из носовых пушек. Реки алой крови, как полосы развернутого кумача, ложились по поверхности воды. Раненые киты стремительно тащили за собой загарпунившие их шлюпки, стараясь уйти под воду. Один кит перевернулся кверху брюхом.
— Ой, да и горячо же работают! — говорили молодые матросы. — Руки сами просятся. Идем, ребята, в китобои!
Через день увидели недалеко впереди высокую землю, хотя, по вычислению штурмана Хлебникова, никакой земле быть в этом месте не надлежало. Однако со шлюпа ясно видны были горы, холмы, долины, очертания берегов.
Даже Головнин начал сомневаться. Стоя на вахтенной скамье, он долго глядел в подзорную трубу на странную землю.
— Не снесло ли нас к западу?
— Может быть, это Огненная Земля? — предположил Рикорд.
Тогда легли в дрейф и выпустили линь длиною в восемь-десять саженей, но дна не достали.
Василий Михайлович приказал снова поставить паруса я итти прямо к берегу. Но последний скоро начал меняться в очертаниях, рассеиваться и в конце концов расплылся в виде тумана.
— Это туманная банка, — сказал Головнин. — Не земля, а морской мираж ее, фата-моргана, какими Фантаз, бог сновидений и брат Морфея, бога сна, как полагали древние, обманывает затерявшихся в море людей, посылая им видения земли, которую они, несчастные, жаждут узреть.
В этот день «Диана» прошла параллель мыса Горн в долготе 63° 20'.
Глава восьмая
ГОЛОС КАПИТАНА
Где мы? — спросил Головнин штурмана Хлебникова утром 12 февраля.
Мы находимся на широте 58° 12', господин капитан, — ответил Хлебников.
Он был всегда исполнительный и точный в своих вычислениях штурман.
Головнин любил этого молодого офицера с открытым лицом, с ясным и прямодушным взглядом светлых глаз.
Он ласково улыбнулся ему, подумав: «Скоро предстоят нам бури, но я могу положиться на таких офицеров».
В этот день «Диана» прошла меридиан мыса Горн и вступила в полосу непрерывных штормов, которые усиливались с каждым днем. Штормы сопровождались частыми шквалами с дождем, снегом, градом.
Вся команда день и ночь была наверху.
На двенадцатый день плавания поднялся еще более жестокий шторм. Головнин, не покидавший вахты, приказал убрать все паруса, оставив лишь штормовые стаксели.
Волны были так высоки, что тяжело груженный шлюп не мог подниматься на их гребни, и его несло боком по направлению ветра.
— Выбросить лаг! — скомандовал Головнин.
Лаг был выброшен, но он не мог погрузиться в воду: ветер был так силен, что держал его в воздухе.
Искусными маневрами Головнину несколько раз удавалось поворачивать «Диану» по ветру, но последний все время менялся.
Воспользовавшись некоторым затишьем, Василий Михайлович велел собрать команду и обратился к ней с такими словами:
— Сейчас мы вступили в самую опасную часть нашего плавания. Если мы вытерпим и обогнем мыс Горн, то уже дальше, до самой Камчатки, итти будет легко. Вы до сих пор показывали себя молодцами. Вы повергли в великое изумление жителей Санта-Круца, перетащив на руках десятисаженный ствол железного дерева через гору, за три версты, по жаре, от которой прячутся местные жители. Так неужто же вы не выстоите против знакомых всем нам холодов, против штормов, коих не страшится русский матрос?!. Так я говорю, братцы?
И команда отвечала:
—Так! Выстоим! Отчего не выстоять? Веди нас, Василий Михайлович! За тобой хоть в огонь!
Матросы продолжали стойко бороться с непрекращавшимися штормами, стоя сутками на ледяном ветру в мокрой, не просыхавшей одежде, которую некогда да и негде было просушить, ибо огонь на корабле был потушен.
Не в лучшем положении находился и сам капитан. Но это не тревожило его.
Видя великий труд и стойкость команды, он чувствовал в своем сердце радость.
Радовали его в эти дни и офицеры.
Не только смелый душой и спокойный, открытый и добрый характером Хлебников, не только юношески восторженный Рудаков, с увлечением обучавший еще более юных, чем он, гардемаринов Филатова и Якушкина, чьи глаза горели отвагой при виде бушующих волн океана, не только опытный в мореплавании и верный друг Рикорд, но даже молчаливый и замкнутый Мур радовал его своим искусством.
Решения Мура были быстры, распорядительны, порою, правда, несколько неожиданны, но исполнены ума, сведущего в мореходстве.
«И этот — исправный и искусный офицер, — думал о Муре капитан. — И на него мне положиться можно, как и на других. Жаль только, нелюдимую душу имеет, но это его печаль».