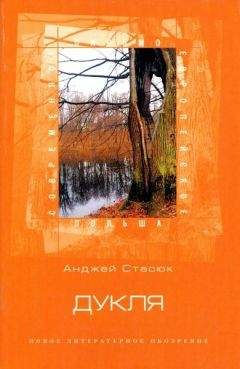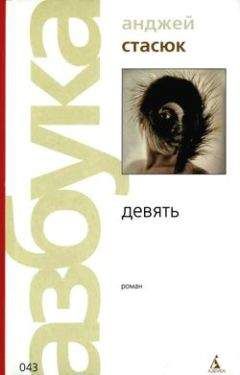Анджей Стасюк - На пути в Бабадаг
С такой речью я обращался к духу Якуба Шели на задворках Европы, на околице деревни Вишань. Мною овладевали леваческие мысли, но революционного задора не было ни на грош. В километре от меня, в чистом поле, у дороги, сидел мужчина и читал газету. Насколько хватало взгляда, было пусто, а он едва поднял глаза на нашу машину и тут же снова принялся за чтение. Мы ехали на юг, в деревню Клит, чтобы проверить еще одно предполагаемое место захоронения. В нем был элемент правдоподобия, поскольку Клит находится в нескольких километрах от Сольки, куда Шелю сослали австрийцы, уже потом, когда все закончилось. На перекрестке за Радовцами стоял румынский мент. Просто стоял посреди перекрестка. Увидав нашу машину, он демонстративно отвернулся и уставился куда-то вдаль. Похоже, таким образом он демонстрировал свою доброжелательность. Делал вид, что не видит нас, поскольку мы представляли собой явный вызов. Он просто не хотел нас останавливать, хотя почти наверняка был обязан.
В Клите говорили на странном языке. Он напоминал украинский, но я понимал одно слово из пяти. Я спросил женщину в платке, украинская ли это деревня. «Мы русские», — ответила та. Мы расспрашивали о Шеле — не слыхала ли она здесь или в округе такое имя. Она покачала головой, а потом сказала, что отведет нас к самому старому человеку в деревне. Дорога была сухой и пыльной. Стены и ставни деревянных домов выкрашены белой и зеленой краской. На землю сыпались розовые и белые лепестки цветущих яблонь. Где-то вдалеке поблескивала гладь пруда. Гуси шли туда совершенно одни. Из тени и пыли вышел мужчина в застиранных тиковых штанах. Он вовсе не выглядел таким уж старым. Долго размышлял, велел повторить фамилию, потом сам принялся расспрашивать нас: что за человек был этот Шеля — какой-то наш «батько»? Ну, вроде того, отвечали мы уклончиво. Наконец он сдался и сказал, что есть тут один человек, правда, не очень старый, зато поездил по свету, недавно вернулся из Германии, может, он что посоветует. Старик вызвал его из бара у дороги. Мужчина лет сорока, в комбинезоне с надписью «Esso». П. сказал, что «Esso» — это почти «Shell», так что, возможно, мы близки к цели. Мы объясняли по-русски, по-украински, по-немецки и по-польски, но в результате выяснилось, что они могут разве что показать нам, где находится кладбище. Они отвели нас, пожелали счастья, доброго пути, здоровья и оставили в прохладе кладбищенских деревьев. Старик медленно и осторожно спускался с холма. Младший спутник время от времени поддерживал его под руку. Они могли и не приходить сюда вместе с нами. Могли показать нам холмик издалека, но в этих краях поиски могилы считают занятием куда более серьезным, чем обычный туризм, и люди относятся к этому с уважением. Вероятно, посещая их кладбище, мы становились их гостями.
Да. В Клите он тоже мог бы покоиться. С холма открывался вид на купола белой церкви и неоготический костел. Его родная Смажова тоже лежала в Погорье, только долины там более тесные, а хребты поросли лесом. Тут все было голым, вспаханным или заросшим травой. Синий зной струился над горизонтом. Никаких следов нашего «батьки».
Их и быть не могло, потому что во время путешествий история постоянно обращается в легенду. Чересчур много событий на чересчур большом пространстве. К тому же некому было держать их в памяти, не говоря уж о том, чтобы записывать. Невозможно уделять внимание событиям, которые пришли неведомо откуда, цель и смысл которых не вполне ясны. Никто не соединит их воедино, не сколотит законченную повесть. Инертность — сущность этих краев. История, события, логика, идея и план постоянно размываются в пейзаже, материи куда более древней и обширной, чем все усилия разом взятые. Время берет верх над памятью. Ничего невозможно запомнить наверняка, поскольку поступки не укладываются в цепь причин и следствий. Идея длинного повествования о духе истории выглядят здесь так же жалко и претенциозно, как традиционный роман. Пароксизм и скука сменяют друг друга в этих краях, делая их столь человечными. «Это ваш батько?» Почему бы и нет, подумал я. В определенном смысле и наш, и ваш. В конце концов, он олицетворяет желание резко изменить собственную судьбу, которое столь же неожиданно оборачивается смирением перед своей участью.
Описание путешествия через восточную Венгрию на Украину
Небо, когда в сумерках мы ехали из Надькалло в Матесальку, было совершенно незабываемо. Весь поезд состоял из одного вагончика. Причем поезд был скорый и с нумерованными местами. Чтобы объяснить нам последнее, толстая кассирша, улыбаясь, несколько раз привстала и плюхнулась на стул.
В Венгрии красивые железнодорожные билеты. Похожие на маленькие банкноты. В поезде в Серенч молодые цыгане разворачивали их гармошкой, складывали колодой и веером. В ушах у них болтались золотые серьги, но это было двумя днями раньше.
А теперь на западе раскрылся пурпурный плюмаж. Огненно-красная длань зависла над равниной, а внизу, меж кукурузных полей и садов уже стелился синий сумрак. Мы пили «асу» из горла и сидели против хода поезда, так что этот закат, эта разлитая сверкающая кровь постоянно находились перед глазами, и мы видели, как тьма постепенно вытекает из земли, поднимается выше, выше и выше, воздух делается холоднее и холоднее и наконец все гаснет, а в красном вагончике зажигается свет.
И получаса не прошло, а уже вспоминался Надькалло: горячий послеполуденный свет, когда мы шли в центр мимо желтых домов. Обнаружили огромный собор. На скамейке у входа сидели музыканты. Один из них поднял блестящий тромбон и поприветствовал нас. Я вошел, надеясь наконец увидеть, как выглядит венгерский храм изнутри, но там было полно народу, впереди стояла молодая пара, а у алтаря я увидал пастора. Ни органа, ни риз, лишь Слово в чистом виде, как было в начале и как должно быть в конце вместо всех этих чудес, сотворенных руками человечества человеку в утешение. Потом процессия вышла — неспешно, очень торжественно, и эта троица ожидавших музыкантов в белых рубашках — тромбонист, аккордеонист, гитарист — казалась невесомой, легкой, почти легкомысленной, почти по-католически, однако они заиграли что-то медленное, и толпа, словно крестный ход, двинулась к рынку.
В Надькалло мы поехали потому, что там — как гласил путеводитель — «в конце длинной и чертовски пустой площади» находится психиатрическая больница. Я подумал, что это, возможно, материализация метафоры, метафоры европейского востока. Воображение рисовало большой пыльный майдан, окруженный развалюшками. Площадь периодически пересекают армии, облаченные в самые разные мундиры, насилуют, грабят и никогда не задерживаются дольше. Отбывают, и всадники тут же исчезают в нагретой пыли равнины. Из больничных окон глядят им вслед безумцы и тоскуют, потому что в этих восточных краях власть, насилие и помешательство всегда соединяли узы, сродни сожительству, а порой и законному браку.