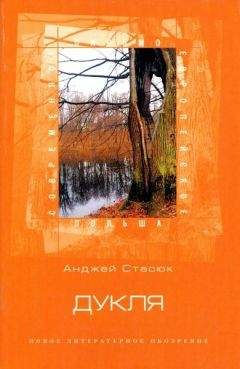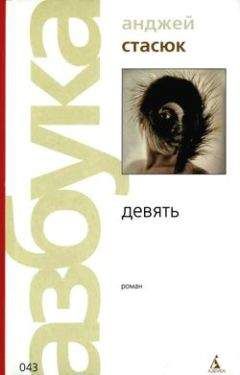Анджей Стасюк - На пути в Бабадаг
Так что я ехал, глядел в окно и воображал армию возбужденных оборванцев: погонщиков скота, пастухов и крестьян, что силятся хоть на мгновение примерить к себе господскую судьбу, то есть иметь возможность распоряжаться собственной жизнью, чужим богатством и насилием. Несколько месяцев назад я искал могилу Якуба Шели[24] на Буковине. Я расспрашивал о нем в самых разных местах, потому что мне требовался предлог, чтобы отправиться на край света. Одни говорили, что могила Шели — в Ютите, другие — что у самой украинской границы в деревне Вишань.
Я верил и тем, и другим. Мне даже пришло в голову, что австрийцы обошлись с ним примерно так же, как венгерская власть — с Дожей, то есть расчленили память о нем, память, которая в те времена служила реальной угрозой. В конце концов, как утверждал Людвик Дембицкий, «он, очевидно, был мистиком и сектантом в сермяге». Из всех возможных мест захоронения наиболее подходящим мне казалась деревня Вишань, хотя это было совершенно неправдоподобно: затерянное в полях, отрезанная от мира, богом забытая дыра. Дальше попросту не было ничего — ни с одной стороны. Бесконечность безлесной земли, которая, однако, местами кем-то обрабатывалась, головокружительным образом противоречила этой деревеньке, где я не обнаружил никакого транспорта, кроме одного велосипеда. Наша машина смотрелась здесь чудовищно, вызывающе. Это была часть возвышенности между Радовцами и Сучавой, где по бескрайним волнистым полям двигались маленькие конные упряжки. Свежевспаханная черная земля мгновенно соединялась с небом, и маленькие человечки и худые жилистые лошадки были так ничтожны, что почти невидимы. Казалось, стоит им подняться, стоит замереть, и они утратят всякий смысл. Их существование оправдывало только движение. Все казалось чьим-то капризом. Словно кто-то расставил в гигантском пейзаже фигурки из рождественских яслей, чтобы полюбоваться их беспомощностью.
Деревня пахла навозом и весной. За заборами цвели сады. Кафе располагалось в кирпичном здании. Парень в черном сказал, что у них там есть пиво. Девушку, у которой хранились ключи, мы обнаружили в соседнем дворе. Она нам открыла. Мы расспрашивали о Шеле — мол, он вроде похоронен где-то здесь, но она ничего не знала, кажется, даже фамилию слышала впервые, хотя и полька. Внутри стояло несколько столиков и царил странный хаос, словно это были декорации к фильму. Все серо-зеленое. На полу деревянные ящики, в каких развозили когда-то стеклянные сифоны с содовой водой, — только здесь они были заполнены полуторалитровыми бутылками с вином. Два сорта пива, два сорта папирос и пепельницы, полные окурков, точно после банкета. Еще идеологические плакаты на стенах и окно во двор, где бродили розовые поросята, — и ничего кроме. Немногочисленные вещи, мебель и товары образовали тем не менее чудовищный хаос. Все казалось брошенным на полпути, забытым, точно вот здесь, в этой точке, исчерпалась мировая энергия. Мы выпили по бутылке пива. Девушка больше молчала, но в конце концов отвела нас на старое кладбище за околицей — может, там? Но там только клубились колючие заросли — и никаких следов надгробий, плит, крестов, хоть чего-нибудь, ни единого знака минувшей смерти. Я подумал: все-таки жалко, он должен лежать именно здесь и однажды воскреснуть. Не надо обладать буйным воображением, чтобы представить, как он входит в кафе, не удивляясь интерьеру, поскольку неподвижность, печаль и запустение не меняются ни во времени, ни в пространстве. Корчма еврея Шимека в Седлиска-Богуше 20 февраля 1846 года, видимо, не сильно отличалась от современной забегаловки. На полях лежал снег, было морозно, внутри царил полумрак и витал смрад грязных тел. «Идите, парни, работать, да поспешите, время не ждет». На нем был черный суконный плащ, в руке — захваченная в Богуше сабля, которой он постукивал о землю, точно посохом. Во дворе усадьбы кровь впитывалась в снег. От разбитых бочек несло водкой. Австрийцы объявили его крестьянским королем только на двадцать четыре часа, а день медленно подходил к концу. «Идите, парни, работать, да поспешите, время не ждет». Проклятая господская кровь впитывалась в снег, у парней в карманах звенели дукаты, но ни полумрак, ни смрад не рассеивались ни на мгновение. Окружной исправник Брейнль сказал ему в Тарнове: «Фердинанд — один, а ты второй в Галиции полномочный представитель». Некоторые утверждают, что он собирался взять в жены десятилетнююю Зосю Богуш. Хамская кровь соединилась бы с господской и дала начало новому роду, который завладел бы обновленной землей. Возможно, он не верил в свои силы, возможно, новый мир предполагалось строить, копируя поведение господ в пустой абстрактной реальности, более не оказывающей сопротивления.
Итак, он мог бы восстать из гроба и войти в кафе в деревне Вишань, и все было бы так, словно он никогда не умирал, потому что эта забегаловка, наверное, не многим отличалась от корчмы еврея Шимека. Полтора века спустя он мог бы начать все заново, уже без австрийского благословения. Так думал я, стоя в лучах полуденного солнца. Я проехал несколько сотен километров и имел право на подобные мысли. К тому же я прибыл из его родных мест. Я смотрел в сторону Молдавии и размышлял, чью кровь он захотел бы пролить сегодня, с чьей кровью захотел бы смешать свою. В кафе грузно и медленно кружили мухи. На полке лежали самые дешевые папиросы двух сортов. В округе не было никаких господ, но воздух по-прежнему отдавал духотой нищеты. Я думал: вот ты сидишь тут, Шеля, пьешь «Урсус» или «Сильву», и некому вцепиться в горло. А если даже и решишься, мир расступится перед тобой, будто призрак, оставив с пустыми руками. Да, фиг ты им что сделаешь, потому что некому. Можешь разве что поехать в Сучаву и разгромить синий банкомат, уподобившись постиндустриальному Неду Лудду,[25] который двести лет назад уничтожал первые станки. Сегодня уже не удастся стать другим человеком с помощью простого переноса вещей или предметов. По сути, и убивать в надежде обрести тело и жизнь убитого — некого. Богатство есть неуловимая идея, что кружит в воздухе, время от времени материализуясь то тут, то там. А вот нужда, изгойство и упадок суть конкретика, и, вероятно, это навсегда. Все сокровища мира кажутся сейчас немного ничейными, и никакой грабеж тебя не освятит, и никакое насилие не облагородит. В твоем распоряжении только банкомат в Сучаве как реальная эманация отдаленного всеобъемлющего зла, которое никогда не позволит последним стать первыми.
С такой речью я обращался к духу Якуба Шели на задворках Европы, на околице деревни Вишань. Мною овладевали леваческие мысли, но революционного задора не было ни на грош. В километре от меня, в чистом поле, у дороги, сидел мужчина и читал газету. Насколько хватало взгляда, было пусто, а он едва поднял глаза на нашу машину и тут же снова принялся за чтение. Мы ехали на юг, в деревню Клит, чтобы проверить еще одно предполагаемое место захоронения. В нем был элемент правдоподобия, поскольку Клит находится в нескольких километрах от Сольки, куда Шелю сослали австрийцы, уже потом, когда все закончилось. На перекрестке за Радовцами стоял румынский мент. Просто стоял посреди перекрестка. Увидав нашу машину, он демонстративно отвернулся и уставился куда-то вдаль. Похоже, таким образом он демонстрировал свою доброжелательность. Делал вид, что не видит нас, поскольку мы представляли собой явный вызов. Он просто не хотел нас останавливать, хотя почти наверняка был обязан.