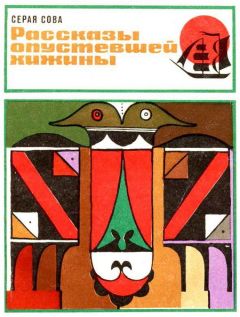Валерий Барабашов - Белый клинок
Выглотав почти всю флягу, Нутряков сидел теперь на коне обмякший, полусонный, безразличный ко всему. Осуждающе поглядывая на него, морщась от боли, ехал рядом Митрофан Безручко, проклинал красных: шальная пуля куснула его в бедро, застряла в мякоти. Зайцев, коновал, расковырял рану, пулю достал, но бедро посинело, сидеть и то было больно. Безручко однако храбрился, от санитарной повозки отказался — не до того, мол, эскулапная твоя душа. За народом надо теперь смотреть да смотреть, а я в повозке валяться буду. Вон и Сашка Конотопцев что-то скис, держался со своим взводом разведки особняком, сбоку войска; но от его взвода то и дело отлетали два-три конных, щупали округу — нет ли поблизости красных. Ну, хоть работает Сашка, и то слава богу. А начальник штаба совсем скурвился, хлещет и хлещет самогон… Колесникову, похоже, все трын-травой: надулся, как сыч, молчит…
Колесников действительно ехал неразговорчивый, мрачный. Уже первый настоящий бой показал ему главную слабость всей этой разношерстной сборной орды, которая именовалась Воронежской повстанческой дивизией — трусость. И эскадроны, и полки, и отдельные взвода были храбры и решительны, если видели перед собой слабого. Ах, с каким упоением и лихостью вырубали они малочисленные гарнизоны в волостях и мелкие продотряды красных! Но стоило им увидеть перед собою регулярные части Красной Армии, тот же полк Качко, — и куда девались боевой запал и лихость?!.
Подумал Колесников и о себе; отчетливо понял, всей вздрагивающей кожей ощутил, что за ним лично охотятся, что кто-то задумал уничтожить его во что бы то ни стало и будет этого добиваться. Колесников вспомнил того чекиста, решившегося на отчаянный шаг, не пощадившего ради этой цели жизни…
Судорожно передернув плечами, он невольно оглянулся — нет ли и позади, за спиной, таких же, как у того чекиста, ненавидящих глаз? Не подслушал ли кто его мысли? Не видит ли кто его страха?
Усмехнулся: кто может знать чужие думки? И кто может, из его войска ненавидеть его, желать ему смерти? Чушь! Но парень тот, чекист, шел ведь в Калитву не на голое место — Нутряков доложил ему, что Степан Родионов, которого они казнили, связан был с чека. Нет ли среди его подчиненных нового Степана?.. Ладно, что теперь думать об этом?
За месяц с небольшим столько пролито крови, столько совершено злодеяний, что никого из них, особенно командиров — Безручко, Гончарова, Конотопцева, Нутрякова, а в первую голову его, Колесникова, не простит ни один даже самый гуманный суд. Григорий Назарук — этот кончил свой земной путь, кончат так же сегодня-завтра и другие: красные не успокоятся, пока не разобьют их. Эх, поддержал бы Александр Степанович — ведь обещал, письма слал, гонцов… А на деле…
У Антонова, видно, свои заботы, не до Колесникова ему — воюй как знаешь и умеешь. Навалились бы гужом на этого Мордовцева с Алексеевским, только бы пух от них полетел. А теперь… Теперь, по всей видимости, бои предстоят затяжные, кровопролитные. Красные явно хотят взять его в клещи, не просто так они пошли на него с двух сторон. Но они слишком прямолинейны, идут напролом, выдают свои намерения с головой. Конечно, у них крепко сбитые воинские части, бесстрашные отряды милиции и чека, боеприпасы, воевать с ними непросто, но он, Колесников, противопоставит им маневр, изматывающую, изнуряющую тактику ночных нападений, быстротечных боев, неожиданных отходов. Ему надо беречь теперь не такое уж и многочисленное войско, поддерживать в нем дух непобедимости, веры в успех — ибо только они, эти гогочущие за спиной люди, дадут ему возможность видеть еще голубое небо и яркое солнце, ощущать мягкий податливый снег, радоваться самой жизни, просто дышать. Другие же люди, прежде всего чека, отнимут у него все это в один миг, не колеблясь и не раздумывая, — в чека с врагами не церемонятся, он это хорошо знал. Для них он — преступник, бандит, руки у которого по локоть в крови. Да что это он? Какой он преступник? И он сам, и подчинившиеся ему люди воюют за справедливое народное дело — освобождение всего Черноземного края и России от власти большевиков. Антонов поднял против них тысячи и тысячи людей, и чем черт не шутит, глядишь, и сбудутся его обещания — посадить Колесникова головой Воронежской губернии… Правда, чем черт не шутит! Воронеж — не за горами.
Колесников усмехнулся своим мыслям — какой там Воронеж! Все еще в Калитве топчутся, ни одного уезда взять не смогли, хоть и наскакивали на те же Калач, Богучар, Россошь.
Эти мысли и собственная неустойчивость разозлили Колесникова. Он стиснул зубы, ехал некоторое время, ни о чем не думая. Даже рукой на себя махнул — а, скорей бы все это кончалось. Вон Гришка Назарук… В следующее мгновение передернул обвисшими плечами, ощетинился: ну нет, Иван Сергеевич, шалишь! На тот свет еще успеешь, а этого уж больше не будет. Посмотри, он какой: снег белый, небушко голубое, чистое, лошадь под тобой живая, горячая, воздух свежий, прозрачный, так и льется в грудь, распирает ее радостью, токами жизни. И чего бы не радоваться, чего хандру на себя напускать? Ведь разбил он красных и в тот раз, две недели назад, и теперь, под Криничной. Сейчас двинут они с Богданом Пархатым на Старую Калитву, выкинут оттуда красных, Белозерова и Качко… Бог ты мой, подумать только: в его родном доме хозяйничают безграмотные лапотники!.. «Убивать. Убивать! — скрипанул Колесников зубами. — Никого не жалеть, никому ничего не прощать. Ни своим, ни красным!..» Безручко прав: хлопцев много по деревням, взамен убитых и раненых они поставят под ружье новые тысячи. Страшно остаться трупом, бездыханным бревном на снежном таком вот поле, ничего не видеть и не слышать, не чувствовать; страшно даже подумать о смерти, о том, что не станет его больше на земле, что не он, Иван Колесников, а кто-то другой будет сидеть на этом вот послушном и хорошем коне, дышать, пить, тискать бабу… Колесников вспомнил взгляд чекиста, которому приказал отрубить ноги и бросить умирающего в снег, отчетливо представил его последние минуты… «Жи-и-ить… Жи-и-ить!» — застонал он в нечеловеческом, животном страхе, затопившем все его существо до краев, помутившем разум, — покачивался в седле, хватал руками воздух, словно искал в нем последнюю, такую ненадежную опору…
Безручко встревоженно окликнул его:
— Ты чего это, Иван? Чи захворав?
Колесников какое-то время не слышал и не понимал начальника политотдела. Открыл глаза, дико, затравленно посмотрел вокруг, тщетно стараясь унять дрожь во всем теле; а зубы, проклятые, сами собою клацали, били чечетку…
— Да так я, так… — выдавил он наконец, и осипший его голос был скорее похож на отрывистый собачий лай. — В голове шось потемнело…