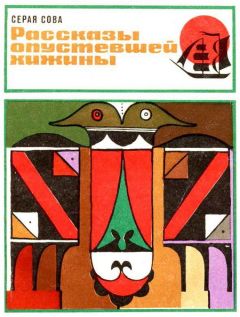Валерий Барабашов - Белый клинок
Безручко встревоженно окликнул его:
— Ты чего это, Иван? Чи захворав?
Колесников какое-то время не слышал и не понимал начальника политотдела. Открыл глаза, дико, затравленно посмотрел вокруг, тщетно стараясь унять дрожь во всем теле; а зубы, проклятые, сами собою клацали, били чечетку…
— Да так я, так… — выдавил он наконец, и осипший его голос был скорее похож на отрывистый собачий лай. — В голове шось потемнело…
— М-да-а… — не поверил, протянул неопределенно голова политотдела и зычно крикнул начальнику штаба: — Дай-ка фляжку, Иван Михайлович! Чого ты один до нее присосався?! Ивана Сергеевича вон мутит!
Подождал, пока Колесников сделал несколько судорожных больших глотков, сам припал к алюминиевому горлышку жадными, настывшими на холодном ветру губами…
* * *Колесникова между тем настигали три эскадрона кавалерийской бригады под командованием Милонова. Бригада прибыла наконец на станцию Митрофановка, эшелон еще разгружался, а три эскадрона, выгрузившиеся первыми, бросились за повстанцами в погоню.
— Орудия поворачивай, собаки! — заорал Колесников, быстро оценив ситуацию. — Руденко, мать твою!.. Шо зенки вылупил?! Командуй, ну?! По коннице, залпами!.. Сбивай их с коней, поняв? И пусть хоть один с поля побежит — тебя зарублю, ну?!
Колесников, мечущийся среди своего растерянного войска на храпящем, вскидывающем передние ноги коне, орал до хрипоты, до пены на губах. Он понимал, знал по опыту, что конницу красных надо смять, повернуть ее, опрокинуть. Он не щадил сейчас ни себя, ни своего коня, ни подчиненных — смертным холодом дохнуло вдруг с этого заснеженного, искрящегося солнцем поля. Но почему разведка не предупредила их о настигавшей коннице красных! Где эта лисья морда, Конотопцев?! Почему Сашка не обнаружил красных загодя?!
— Где Конотопцев? — заорал Колесников на Нутрякова. — Куда он, собака, делся?
— Хлопцы говорят, что ранило его, ускакал в Калитву вон той лощиной. — Нутряков пьяненько посмеивался; привстав нетвердо на стременах, тянул руку, показывал.
— Ранило? Ускакал?.. Кто разрешил? — Глаза у Колесникова лезли из орбит. — Бери сам его взвод, погляди, не обходят ли красные справа, там овраг. Чего стоишь, пьяная харя?!
Нутряков оскорбленно дернулся в седле, попытался выпрямиться, развернуть грудь.
— Пэ-эпрашу без зверств, Иван Сергеевич! Я — офицер и не потерплю такого с собой обращения. Если вы привыкли вести себя по-хамски…
— Убью-у! — волком завыл Колесников, выхватывая клинок, замахиваясь им над головой начальника штаба. — Делай, шо сказано, сучья твоя душа!
— Хорошо… Хорошо… — многозначительно, с белым лицом кивал Нутряков, отступая от Колесникова боком, терзая трензелями своего коня. — Раз я сучья душа, клинок на меня поднят… Хорошо.
И поскакал в ту сторону, где должен был находиться взвод разведки, а, нырнув в пологую и длинную лощину, повернул к Новой Калитве.
«Повоюй, Иван Сергеевич, без начальника штаба, — думал он. — Ты умный, смелый… А я пока чекисткой займусь. Обоз-то наш с оружием… где он? Как стало известно красным о его движении? Кто сообщил в чека? Пусть Вереникина покрутится под горячими шомполами, пусть испробует хорошей плетки…»
Колесников, проводив начальника штаба разъяренным взглядом, кинул клинок в ножны, осмотрелся: войско его приняло более или менее боевой вид — впереди рассыпались по снегу, залегли цепи пехоты, повернулись жерлами на конницу красных орудия, ахнул первый выстрел; справа топтался эскадрон Позднякова — он чего-то тянул, не решался броситься на красных в контратаку.
— Поздняко-о-ов! — зычно заорал Колесников. — Долго будешь я… морозить? А?
Тот помотал бараньей белой шапкой, отдал вялую команду — конница вяло же тронулась.
— Шакалы! Сволочи! — выходил из себя Колесников. — На безоружных да на баб вы смелые, а тут в штаны напустили.
Рядом терся Митрофан Безручко, морщился, гладил бедро. Конь его настороженно водил ушами, вглядывался куда-то вперед, призывно ржал.
— Ну, Иван, дадут нам сейчас красные. — Безручко зябко передернул плечами. — Глянь, как прут.
— Дадут, дадут! И тебе первому! — огрызнулся Колесников, напряженно вглядываясь в близкую уже, неудержимой лавой несущуюся с пологого холма конницу красных. Холодом сжалось сердце — нет, не устоять. Это фронтовики, эти не дрогнут. Била по коннице картечь, резали длинными, захлебывающимися от злобы очередями пулеметы, палили вразнобой и залпами винтовки, но лава, теряя конников, неслась и неслась вперед, и вот уже заблистали над головами первых вскочивших на ноги шеренг пехоты безжалостные, острые клинки…
— Пора тикать, Иван, — сказал Безручко. — Близко уже.
— Пора, — рассеянно кивнул Колесников, бросив последний равнодушный взгляд на страшное зрелище: от пехоты в четыреста штыков остались уже какие-то жалкие, разбегающиеся по белому снежному полю фигуры, но и их настигали всадники в буденовках…
Секлетея, дрожа всем телом, шамкая насмерть перепуганным беззубым ртом, объясняла вскочившему в избу Нутрякову, что ее постоялица час назад взяла санки и отправилась в лес — привезти хворосту. Она сказала, что надо же ей как-то и платить за постой, да и дрова кончаются, а зима вся еще впереди…
— Кляча ты старая! Крыса! — вне себя вопил Нутряков. — Я ж тебе сказал: ни шагу чтоб она не делала без нашего ведома, поняла? А где Бугаенко? Где Васька Буряк? Почему упустили?
— Та Буряк же спит, пьяный с утра. А Бугаенко… ну кто знае, Иван Михайлович? Вин же начальник, забот по горло. А тут стреляють, стекла вон трясутся у хати…
— У, с-с-собака! — Нутряков что было силы ударил Секлетею кулаком в лицо, и бабка кулем мягко опустилась на земляной, чисто подметенный пол.
А Нутряков, выскочив на подворье, прыгнул в седло, пришпорил коня, хлестанул его плеткой — понесся по-над Доном снежный, бушующий злобой вихрь.
«Ушла. Ушла, змея!» — думал Нутряков, горячил себя и коня, вглядываясь в скользкий пологий спуск к берегу — не хватало еще, чтобы конь подвернул ногу, споткнулся. Надо осторожнее, съехать не спеша, а там, когда выскочит по льду на другой берег… Ну, Катерина Кузьминична, не уйдешь, не успеешь. Тут одна дорога, милая, и я ее знаю, не уйдешь. Уж потешусь я сегодня над тобой, чека, отведу душу. Что там Евсей со своими грубыми приспособлениями для мужиков — кости ломать, руки-ноги выкручивать… Кто из них знает, что такое настоящая пытка?! Кто из них видел человека, у которого в полчаса седеют волосы, а глаза умоляют об одном — убить, не мучить… И теперь этой женщине предстоит испытать нечто невообразимое, жуткое. Только бы догнать ее, схватить. Догнать!..