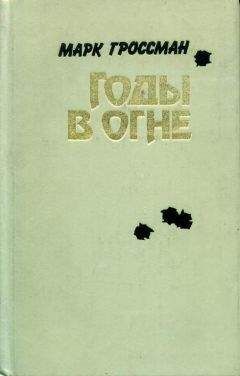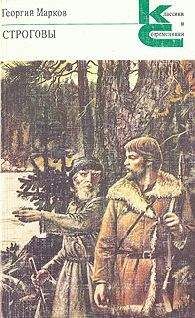Марк Гроссман - Камень-обманка
— К чему глаза мозолить? Он свое дело сделал — можно домой.
В эту минуту возле малой землянки остановился Хабара, крикнул:
— Катя, Андрей, айдате к нам! Разговор есть.
Когда все собрались, Гришка сказал:
— Больше на Китое толочься нечё, так понимаю. Лед уже твердый — идем на Шумак.
Повернулся к старику.
— Сутки те на отдых хватить?
Китаец утвердительно кивнул головой.
— Значить, через день — в дорогу. Там — изба и банька, и к делу поближе.
Никто не возразил.
— Тогда отсыпайтесь, — заключил Гришка. — В запас.
Через сутки, на раннем свете, артель снялась со стоянки и, сойдя на лед, двинулась по реке к устью Шумака. Впереди шел, поскрипывая камасами, Дин, за ним вели под уздцы коней Дикой и Хабара. Сзади шагали на лыжах Кириллова и Россохатский.
Сотник старался не смотреть на Зефира. Жеребец натужно тащил сани с грузом, те самые, с какими китаец вернулся из Иркутска. Глаза на исхудавшей морде коня стали, кажется, вдвое больше. Кобылка двигалась под вьюком, низко опустив голову, и Андрею мерещилось, что она силится прочесть птичьи записи на толстом речном снегу.
На первом же привале, свертывая папиросу, Гришка сказал, хмуря угольные злые глаза:
— Это будеть не сладкая дорога, а все ж полегче, чем летом: ни бродов, ни перевалов, ни дождей. Однако — тайга, и богу не докучайте.
Слова Хабары были не лишние. Уже к этой стоянке Мефодий по-рыбьи хватал воздух ртом, ругался вполголоса и пытался свалить заплечный мешок на сани. Одноглазый затравленно озирался по сторонам, и все как-то внезапно заметили, что в его бороде полно седины.
* * *Россохатский плохо запомнил дорогу и те каторжные дни, которые потратили на нее. Лошади сильно осложняли движение. Без них проще было бы тащиться по заваленному рыхлым снегом и дымящему пропаринами льду. Но — груз! Разве утащишь такой груз на спине!
Хабара, сменив Дина в голове артели, шел по Китою чуть не ощупкой. Артельщика страшили пропарины — ямы во льду, размытые сильным течением и донными ключами. Схваченные иной раз тонким стекольцем льда и припорошенные снегом, они постоянно грозили путникам горькой бедой.
Лошадей плохо держали стершиеся подковы, — кобылка постоянно спотыкалась и испуганно ржала.
Как-то вблизи сумерек Ночка оступилась и, падая, порвала себе бок о зазубрину прибрежного камня. Она лежала на снегу и не хотела подниматься, несмотря на свирепую ругань и тычки Мефодия.
Хабара зло оттолкнул одноглазого от лошади и, кинув остальным, чтоб жгли костер и рубили навес для сна, склонился над Ночкой. Он говорил молодой кобылице добрые слова и вытирал ватой, выдранной из куртки, неглубокую и в общем-то неопасную рану. Гришка понимал, что лошадь лежит не из-за царапины, а потому что измаялась, и все причмокивал губами и гладил ее по шее, надеясь подбодрить лаской.
Когда Ночка всё же рывком поднялась со снега. Хабара захватил из костра горсть золы и присыпал рану.
Вечером лошадей выпустили на поляну, чтоб покопытили немного травы. Затем перекусили сами и, запалив под навесом юрлык[55], легли спать.
На рассвете Хабара поднял людей, и все началось снова: медленное, тупое движение по льду, падения, резь в глазах.
Мефодий скрипел зубами, ругался, постоянно приставал к Гришке, упрекая артельщика, что он ведет их черт знает куда, а вовсе не к жилью. По ночам Дикой не ленился вскакивать с лапника и, возвращаясь, кричал, что в прошлый раз Полярная звезда была за спиной, а теперь торчит, клятая, сбоку.
— Летом бы шли. А теперь — куда? К лешему в зубы, непременно.
Хабара криво усмехался, и глаза его наливались кровью.
— Этот все знаеть… Собаку съел, только хвостом подавился…
К исходу третьих суток Андрей почувствовал, что силы покидают его. Вероятно, здесь, в горах, труднее дышать, чем на равнинах: руки тряслись от усталости, глаза слепила чудовищная белизна снега. Потертые ноги жгло, и чудилось, будто шагает босиком по углям костра. К тому же еще почти без пауз дул резкий ветер — вечером по течению, днем — вверх по долине.
Андрей с удивлением, с радостью, даже с завистью глядел, как рядом мерно шагает Катя, и собирал остатки сил, чтоб не опозориться перед женщиной и не упасть на лед.
Наступила последняя ночь пути. Дин и Хабара утверждали, что завтра придут на Шумак. А там просто найти зимовье.
Россохатский лежал у костра, под навесом, и, несмотря на крайнюю усталость, не мог заснуть. Это бывало и раньше, в боях: изнуряешься до такого предела, настолько выматываешь нервы, что никакой сон уже не берет.
Андрей вздыхал. Он виделся себе одиноким и слабым в этом гигантском холодном мире, и последние надежды на счастье таяли, как дымок над пропариной.
Рядом лежала Катя. Она беззвучно спала, и теплое ее дыхание касалось густой бороды Андрея. Наконец Россохатский не выдержал горьких мыслей, тихонько поднялся и прошел к лошадям. Привязанные к сосне и покрытые грязным тряпьем, теснились бок о бок, безучастные ко всему Зефир и Ночка.
Андрей долго смотрел на лошадей и внезапно подумалось: сейчас заплачет, или закричит, или кинется головой в снег и станет грызть его, пока не кончатся судороги сердца. Мутило от всей этой нелепицы, неустроенной жизни, из которой уже, наверно, не вырваться никому из них, гонимых по земле ветром социальных потрясений.
Зефир и Ночка, облитые светом ледяной луны, стояли жалкие и отощавшие, и с их губ свешивались куски мутного снега.
Россохатский приковылял к Зефиру и уткнулся задубевшим бородатым лицом в костлявый бок жеребца.
— Эк звезды-то шепчуть… — услышал он тихий голос. — За сорок мороз, значить…
Сотник неловко повернулся на звук и увидел Катю. Она стояла неподалеку, Россохатский не мог рассмотреть ее глаз, но знал, что они, как и слова, полны жалости и сочувствия.
— Ничего, Катя, я обвыкну, — сказал он с трудом. — Руки окаменели, а так — все ничего.
Она пошарила в карманах его шинели, достала табак и бумагу, сама свернула и склеила папиросу, отдала Андрею.
— Ты покури, легче будеть.
Почувствовав, что он чуть успокоился, обняла, спросила, грея ему лицо дыханием:
— А томишься ли по мне, Андрей Васильевич?
— Да, да… — отозвался он, занятый своими мыслями. — Скучаю, Катя.
Она в сомнении покачала головой.
— Не вижу я чё-то…
Андрей резко повел плечом, будто сбросил забытье, спросил удивленно:
— А что ж мне скучать по тебе, Катя, когда ты и день и ночь близка?
Она зябко подышала в ладони.
— А обнять те не хочется?