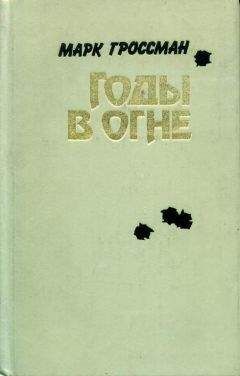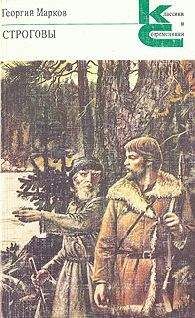Марк Гроссман - Камень-обманка
Пока поделки сушились, китаец развел рыбий клей и, вымеряв размеры дощечек, стал резать из оленьих шкурок одёжку для них. Покончив и с этим, намазал нижнюю часть лыж и мездру камасов клеем, натянул кожу на поделки. Края камасов сверху стянул жилами и дал клею прочно засохнуть. Через день убрал лишнюю кромку кожи и, подняв лыжи за юксы, удовлетворенно прищелкнул языком.
Провожали Дина на студеной утренней заре, едва лишь над белка́ми зажелтело небо.
Старик должен был двигаться вниз по Китою, выйти к его устью и, увидав Ангару, повернуть на Иркутск. В городе надлежало тотчас связаться с Куросавой. Если в Иркутске и окрестностях по-прежнему верховодят красные, Дин, не мешкая, сбудет песок японцу, купит запас и вернется на Китой. И тогда артель уйдет на Шумак.
Перед тем, как проститься, все сгрудились и затихли. Россохатский было решил: обычное молчание перед дорогой. Но тут же понял, — нет. Люди внимательно вглядывались в небо, озирали гольцы, даже, вроде бы, принюхивались к дыму, вылезавшему из трубы.
Наконец Хабара кивнул головой:
— Ну, с богом, старик. Погода добра будеть. И ветерок в спину.
Похлопал китайца по спине, вздохнул.
— Сёл на пути, считай, нисколько не числится, а все ж озирайся кругом. Сгинешь — и нам тут аминь.
— Ладына, — отозвался китаец. — Я быстло ходи. А ваша — голицы делай. Лыжи нету — пропади все.
Он закинул котомку за спину, продел ноги в юксы и, не сказав больше ни слова, мелкими скользящими движениями, будто танцуя, спустился на лед реки. Через минуту уже шагал на восток, вниз по Китою.
Мефодий глубоко, по-коровьи, вздохнул, поскреб пятерней затылок, сказал с явной тревогой:
— Пустили лешего в рай. Сбежит теперь ходя.
Кириллова нахмурилась.
— Полно те бубнить, идол!
Дикой замолк, точно поперхнулся, но сдержал себя и ничего не ответил.
Андрей понимал тревогу Мефодия. Беглый эсер был одет худо и мерз, точно пес в худой конуре. А дорога назад, к теплу, к людям была ему заказана более, чем другим.
Все вернулись в землянки. Возле унылого жилища переступали с ноги на ногу кони. Андрей остановился подле жеребца, долго гладил его по жестким бокам, вздыхал украдкой.
Зефир и Ночка сильно отощали. Правда, они понемногу научились добывать себе сухую траву из-под снега, как это делают бурятские лошади, но все же никогда не наедались, кажется, досыта.
Золота теперь, понятно, никто не искал, и время от зари до зари уходило на поделку лыж и охоту.
Шкурок больше не нашлось — и оттого камасы не делали. Резали лыжи-голицы — широкие, короткие и неуклюжие. Но даже эти дощечки были бесценны в тайге, без них — сразу петлю на шею.
Мефодий стрелял плохо, но упорно отправлялся на лесованье. Может, он невыносимо скучал от горькой этой праздности, а может, отчетливо понимал, что за бездельем придет голодная смерть. Еще до света Дикой просовывал сапоги в веревочные петли и исчезал в чащобе.
Как-то Андрей и Катя (они остались в землянке одни) услышали два выстрела подряд — и встревожились. В лагере не было Мефодия и Хабары. Кто-то из них защищался или, напротив, сам нападал на крупного зверя.
Дикой вскоре появился в лагере. Оказалось — палил не он.
На бородатого несуразного этого человека нельзя было, кажется, глядеть без иронии. Из шкуры убитого Андреем медведя он сделал себе мешок с двумя дырами для рук и перепоясывал его куском веревки. Мефодий надевал самодельный зипун мездрой наружу. Кожа была жесткая, как жесть, с комочками засохшего жира и порезами от ножа, которым Дикой обрабатывал шкуру.
Через час в лагерь пожаловал Гришка. Он распарился, как черт в пекле, еле дышал, но был весел. Хабара приволок на жердях тушу крупного молодого быка, еще не застывшего на морозе.
Оленя коптить не стали. Артельщик, отдышавшись, подозвал Андрея, проворчал добродушно:
— Зимой без коптилки сойдеть. Пособляй мне помалу.
Вдвоем они отыскали крепкий кедр-сухостой, свалили его, очистили от сучьев и коры. Затем с помощью кедровых клиньев раскололи бревно пополам и принялись выдалбливать каждый свою половину.
Трудились дотемна, не покладая рук.
Новый день встретили за работой. Наконец тяжелые длинные корыта были готовы, и все стали солить мясо.
Андрей полюбопытствовал:
— Как бычка-то убил? Невзначай набежал?
— Нет. Потрудился я.
Из слов таежника выходило: изюбря в пору рева берут обманом, губят на любви, — нередкое дело в жизни. Охотник, услышав крик быка, бежит со всех ног к рогачу. А стихнет зов — хоронится за куст или в яму, отнимает стволы ружья, прижимает к губам, тянет в себя воздух. И возникает в тайге звук, грубо похожий на рев. И кажется уже быку: соперник близко, за маток бой. И прет бедолага на рожон, в бешенстве не выбирая дороги. Так и натыкается на пулю сослепа, с любовного поглупения.
Гришка был удивлен: рев давно кончился, ныне октябрь, к чему глупить? Но, видно, горячий бычок попался, в разгаре страстей, — вот и уплатил шкурой своей за оплошку свою, страдатель!
Так резво бежал, что и прицелиться ладом не вышло, первая пуля в круп угодила. Пришлось — как иначе? — еще патрон сжечь.
Катя, выслушав рассказ, с недоверием покачала головой. Однако ничего не сказала.
Сложив подсоленное мясо в корытца-половинки, Хабара огорченно почесал затылок…
— Придется веревкой вязать. И завалящего гвоздя нет.
Андрей сходил в землянку, принес суму, достал из нее жестяную баночку.
— Три десятка подковных. Не сгодятся ли?
— Коротковаты, ну да — ничё.
Быстро сколотили корыта и, уложив колоду в яму, забросали ее землей.
День за днем уплывало время, дума подгоняла думу: как Дин?
Мефодий досадовал:
— Как бы на ходу не помер! В чем и душа держится!
Андрей и Катя часто оставались вдвоем в малой землянке. Россохатский принес в нее пихтовых лап и мха, внутри всегда непылко горела печка, и люди жались к огню, молча провожая дни.
Катю угнетали безделье и тишина, случалось — она просила Андрея поиграть с ней, либо попеть. Сотник охотно соглашался, и тогда под закопченным потолком слышались быстрые считалки.
Последнее слово считалки обычно падало на Россохатского, он должен был «выходить вон» и исполнять желание женщины. Чаще всего она подставляла ему губы, жмурила голубые печальные глаза, и Андрей целовал ее, волнуясь, всегда, будто в первый раз.
Потом наступала его очередь говорить считалку и он, наученный Катей, выговаривал:
— Раз, два, три, четыре.
Жили мошки на квартире.
К ним повадился сам-друг —
Крестовик, кривой паук.
Пять, и шесть, и семь, и восемь.
Паука мы вон попросим.
Ты на мошек не гляди.
Ну-ка, Катя, выходи!
Катя «выходила» и покорно ждала, что от нее попросит сотник. Тогда Андрей, улыбаясь и весь расцветая от нежности к этой удивительной и странной женщине, говорил: