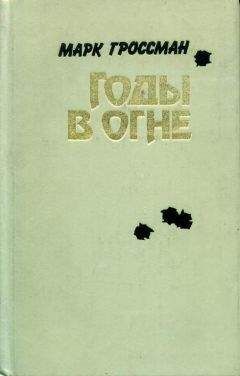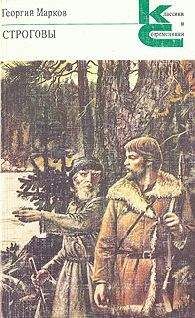Марк Гроссман - Камень-обманка
— Иди на закат, туда, где зверя убил… Я — за тобой. Иди…
— Зачем? — не понял Россохатский.
Женщина исподлобья взглянула на него и, пытаясь подавить раздражение, подтолкнула в спину.
— Иди, ваше благородие.
Сотник пожал плечами и вяло зашагал в лес.
«Что взбрело в голову? — думал он, наталкиваясь на ветки и забывая прикрыть лицо. — Какие тайны?»
Он вдруг обозлился и вслух обругал Катю:
— Право, дурит баба!
Женщина догнала его вскоре, и двигались они как-то чудно: не рядом, не парой, а гуськом. Кириллова ступала позади неслышным охотничьим шагом, молча, и только дыхание ее изредка долетало до него.
Вблизи Китоя Катя внезапно обошла Андрея и повернула на юг, лицом к далекой монгольской границе.
В версте от реки увидела хоровод елочек, забралась в него, проворчала:
— Шинель постели. Посидеть хочу.
Опустилась на жесткое выгоревшее сукно, зябко поежилась, попросила:
— Сядь близ. Погреться мне надо.
Россохатский сел, и она тотчас прижалась к нему, обвила руками его шею, но опять как-то странно, точно держала его губы на отдалении, боясь — станет целовать.
Андрей почувствовал, что ее руки дрожат, что вся она, как свернутая предельно пружина в сильной, но робкой руке. Посмотрел женщине в глаза, и ему показалось, будто они — небо, по которому волнами проносятся облачка, то грудясь в кучку, то исчезая бесследно. Он уже и сам стал волноваться, ощущая, как сильно ударяет сердце по горлу, уже почти зная — должно произойти важное и милое, — но держал себя в узде, не давая Кате, как в прошлый раз, обидеть себя.
Чтоб как-нибудь уйти от неловкости, сказал, одними глазами показывая на небо:
— Гляди, какое оно разное. Будто море.
Кириллова спросила, не отнимая рук от его шеи:
— Какое ж оно?
— Море?
— Да.
— Как слезы. Соленое.
— Нехорошо это — слезы.
Он не согласился.
— Случаются всякие. И в радости плачут.
Внезапно поинтересовалась:
— Ты свово коня сильно любишь?
И сама ответила: — Сильно.
Поглядела на кроны сосен, залитые солнцем, вздохнула.
— Всю войну — на Зефире?
Он попытался помотать головой.
— Нет, что ты! Подо мной трех коней убило. До Зефира дончак был… Видала дончаков?
— Откуда ж? Какой он?
— Казачий конь, Катя. У меня был старого, чистого типа. На взгляд неприметен. Невысок, голова горбом, ноги и шея длинны весьма. Зато быстр и поворотлив, как ящерка! А в бою и миг многое значит…
— Можеть, и так…
Андрею казалось, что Катя слышит его и не слушает, и он сердился в душе: «Нашла тему!». Но женщина не выпускала его из жестких объятий, и приходилось продолжать нелепый этот разговор.
Он сообщил, какие бывают у коней аллюры, то есть хода́, чем отличается карьер от галопа и что рысь — искусственный аллюр, а иной рысак покрывает за минуту без малого три версты. И оттого сердце у чистокровки вдвое больше сердца обычной лошади.
Россохатский отлично понимал, что весь разговор о лошадях не имел никакого значения для Кати, и Катя это тоже, бесспорно, понимала, потому что в жизни никак не обойтись без условностей, что ни говори.
Андрей думал об этом и оттого не сразу услышал слова женщины, будто приглушенные расстоянием.
— Ляг ко мне на колени. Можеть, так лучше будеть.
Он поглядел ей в лицо, увидел, что все оно теперь горит жаром, и сам ощутил в себе жар — и легкий, и знобящий, и праздничный разом.
Катя гладила его по волосам, пропускала их через пальцы, но всякий раз, когда Андрей пытался привстать, сильно прижимала его голову к коленям.
Сотнику казалось: Катя, задыхаясь, бежит сама от себя, не может убежать — и ею овладевает нервная приподнятость, похожая на отчаяние.
Она трепала его по щекам, роняла с грустью:
— Волос у тя ощетинился совсем… Постарел ты с виду.
Вдруг резко склонилась к Андрею, сжала его сильными, грубоватыми руками и, вся опав, лихорадочно зашептала ему в ухо:
— Скорей, Андрюшенька, скорей! Голубчик… скорей!.. Господи, какой же… Ну, скорей же!..
Она тыкалась ему губами в щеку, и были они жесткие, как сосновая кора, и жаркие, будто эту кору выбросили из костра миг назад.
Андрею тоже ударил в голову хмель, его точно окатило непомерным праздничным жаром: он в упор увидел синие, испуганно-торжествующие глаза Кати и тогда совсем уже перестал понимать, что вокруг и где они.
…Он долго целовал ее в лоб, в губы, в слезы — и все не мог оторваться. Потом выбился из сил и сказал, пытаясь выровнять дыхание:
— Я даже и помыслить не мог, Катя, что — первый у тебя… Боже мой… как же это?..
Ласковые эти слова почему-то не понравились Кирилловой. Во всяком случае, так показалось Андрею. Она поднялась с шинели, одернула кофту и усмехнулась.
— Не дорого дано, так не больно и жаль.
Он тотчас вспомнил, как старалась Катенька в прошлом походить на грубоватую, видавшую виды женщину, и теперь отчетливо понял, что внешняя эта жесткость — точно луб на стволе, назначение которого — защищать дерево от тычков и непогоды. Женщина не могла, разумеется, не радоваться тому, что стала ему близка, и все же должна была жалеть о том, что уже ушло и никогда не вернется.
Она поступала иной раз непонятно для Андрея и вот сейчас, сев рядом, сказала почти с вызовом:
— Давай в считалки играть, сотник.
— В считалки?.. — переспросил он, удивляясь, что ей взбрело в голову тешиться детской игрой именно теперь. — Ну, коли хочешь.
Катя стала считать, тыкая пальцем то в него, то в себя:
— Едет чижик в лодочке,
В офицерском чине.
Надо выпить водочки
По такой причине…
Андрею показалось, что она хочет, бог весть почему, уколоть его этим «чижиком в офицерском чине», и сказал о том Кате.
— Нет, — серьезно забеспокоилась она. — Так — в считалке. Я с детства знаю. А вспомнила: там — и причина, и офицер, и водочка… Ну вот, — последнее слово на тя пало — те моя воля закон.
— Какая же воля, Катя?
— Исполнишь?
— Да.
— Все?
— Да.
Она объявила, глядя ему в глаза:
— Выпить хочу. Достань мне веселухи, Андрей.
Россохатский спросил смущенно:
— Где ж взять, девочка? Тут лавок нет.
Она обняла его за шею — обветренную, загорелую, огрубевшую в пору боев и скитаний, — поинтересовалась:
— У тя деньги есть? Али чё ценное?
Он безнадежно вывернул карманы, стал обшаривать себя и вскрикнул обрадованно:
— Крест золотой, Катя! Папа, провожая на фронт, надел.