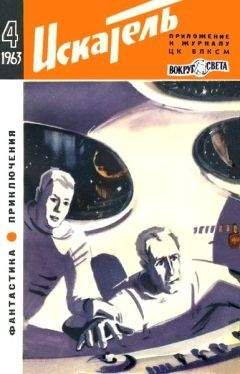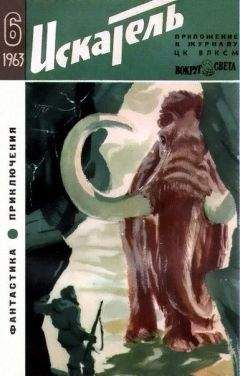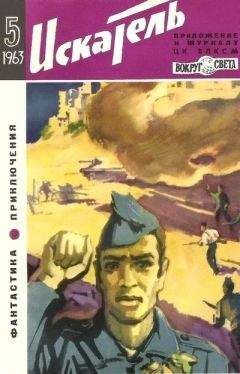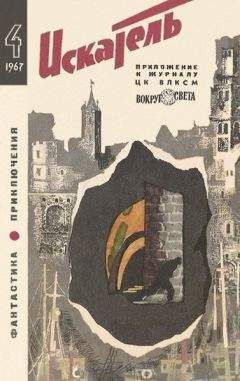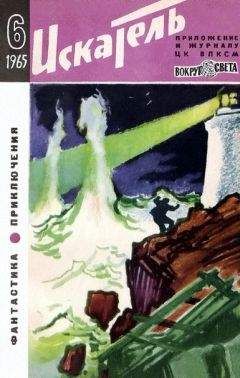Ю. Попков - Искатель. 1963. Выпуск №3
Оппоненты переглядываются, как школьники, не знающие урока.
— В настоящее время совершенно точно установлено, — продолжает Илья, — что световые лучи, испускаемые звездами, проходя мимо Солнца, искривляются лишь на ноль целых восемьдесят семь сотых угловой секунды. К тому же эта кривизна, составляющая менее одной угловой минуты, сказывается лишь при длине луча, равной примерно ста пятидесяти миллионам километров. А каковы размеры вашей натуры?
Кое-кто из «ультра» смущенно хихикает, уже без прежнего почтения поглядывая на своего вдохновителя.
— В стане врагов явное смятение, — шепчет Илье Михаил Богданович. — Пора наносить им решающий удар.
— Давайте уж поговорим теперь начистоту, товарищ Митрофанов, — решительно выступая вперед, предлагает Илья.
— Не Митрофанов, а Холопов Митрофан, — смеясь, поправляет его кто-то из соратников Холло, видимо довольный оговоркой Ильи.
— Прошу прощения, товарищ Холопов, — извиняется Илья. — Ну так вот, давайте-ка поговорим начистоту, как физик с физиком, без игры в «кошки-мышки». Разве же вы не понимаете, что для того, чтобы иметь основание применять в живописи эйнштейновскую трактовку пространства и времени, нужно предположить, что объектами вашей живописи являются тела, движущиеся со скоростью света или очень близкой к ней? Либо допустить, что сами вы устремляетесь к своей натуре с такой скоростью.
— Ну и подумаешь, — запальчиво восклицает один из бородачей, видимо не очень сильный в физике, — пусть со скоростью света! Пусть даже еще быстрее.
— Но ведь это явный абсурд, — смеется Сергей Зарницын.
— Теория относительности рассматривает скорость света, как предельную. Это же школьная истина. А вы ведь клянетесь Эйнштейном.
— Но допустим, однако, возможность такого движения художника к его натуре или, наоборот, натуры к художнику, — степенно продолжает свое рассуждение Илья. — Что же тогда произойдет? А произойдет то, что и объект произведения и его творец, сокращаясь во времени в направлении своего движения, просто перестанут существовать друг для друга как протяженные тела согласно законам той самой теории относительности, на которую вы так опрометчиво ссылаетесь.
Теперь смеются уже все. Растерянно улыбается и сам Холло.
А когда Михаил Богданович с Ильей, Машей, ее братьями и Антоном Мошкиным покидают поле брани, они слышат за своей спиной распри в стане врага.
— Ничего себе теоретик, наш Митрошка! — издевательски произносит какой-то «ультра». — Даже цирковые акробаты положили его на обе лопатки.
— Хорошо еще, что представителей прессы не было, — мрачно добавляет кто-то.
Уильям АЙРИШ
СРОК ИСТЕКАЕТ НА РАССВЕТЕ[2]
ДВАДЦАТЬ МИНУТ ТРЕТЬЕГО
Тамбур был похож на гроб. Ключ дрожал, когда Куин вставлял его в замочную скважину — третий раз в эту ночь. Человек, который говорит, что он никогда ничего не боялся, лжет.
Замок щелкнул. Они вошли. Он придержал дверь плечом и медленно, бесшумно закрыл ее.
— Он там, на втором этаже, — раздался его шепот. — Я не хочу зажигать свет внизу: могут увидеть с улицы.
— Ты иди вперед, — сказала Брикки, — а я буду держаться за тебя. Только поставлю чемодан.
Она ощупью добралась до стены и поставила чемодан так, чтобы его легко было найти. Потом она взяла его за руку. Они двинулись.
— Ступеньки, — шепнул он вскоре.
Она нащупала ногой ступеньку, и они стали подниматься по лестнице. Есть ли еще кто-нибудь в доме? Может быть, кто-нибудь и есть. Ночные убийства часто обнаруживаются только утром.
— Поворот, — прошептал он.
Новый марш лестницы. Наконец ступеньки кончились.
— Поворот, — выдохнул он.
Его рука повела ее направо. Теперь они шли по верхнему коридору.
Здесь стоял запах дорогой кожи и дерева. Она почувствовала аромат сигарного дыма, очень слабый. Еще что-то ощущалось в воздухе, почти воспоминание о запахе: может быть, кто-то пудрился здесь. Или, может быть, духи.
Они переступили порог и остановились. Он протянул руку, и она услышала, как закрылась дверь.
Зажегся свет — невыносимо яркий после долгого путешествия в темноте.
Стены были светло-зеленого цвета, панели — из орехового дерева. Окон комната не имела.
Самым заметным в ней был мертвец.
Комната принадлежала, наверное, одному человеку, а не всей семье. То, что светские молодые люди называют «берлогой». Две или три короткие полки с книгами, вделанные в стену, — можно считать, что до некоторой степени это библиотека. Здесь стоял письменный стол — комнату можно назвать и кабинетом. В разных местах стояло несколько удобных кожаных кресел, шкаф с бутылками, пепельница. Так что скорее всего — это мужской вариант гостиной.
Она была продолговатая; две короткие стены — глухие, в третьей — дверь, через которую они вошли, а в четвертой — две двери: одна в спальню, другая рядом — в ванную. Куин пошел в спальню. Она увидела, как он задернул тяжелые портьеры на окнах спальни, чтобы с улицы не видно было света.
В ванную Куин не пошел, там, наверное, тоже нет окон.
Она считала, что многое повидала в жизни, все знает. Но этого она не знала. Она никогда не видела мертвых.
Она посмотрела на его лицо. На вид ему лет тридцать пять или около того. Должно быть, у него было красивое лицо. Но в конце концов красивы и ангелы и дьяволы. Морщинки, которые двигались, когда человек жил, превратились в неподвижные швы. Рот, который выражал силу или слабость, горячий или спокойный характер, был теперь просто зияющим отверстием. Глаза прежде были жесткие или добрые, умные или глупые; они стали просто блестящими безжизненными инкрустациями. Смерть отобрала мысль и движение.
Он был безукоризненно одет: крахмальная рубашка не помята, и бутоньерка все еще торчит в петлице смокинга.
Подошвы его туфель немножко поблескивают — от воска натертых полов. Значит, он не так давно танцевал? Но какой толк думать обо всем этом!
Куин вернулся. Она почувствовала — он стоит рядом, и была рада, что он рядом; это хорошо.
— А ты знаешь, как его… — спросила она тихо. Как это сделали — чем?
Она нагнулась. Он — тоже.
— Должно быть, здесь. — Ее рука потянулась к пуговице смокинга.
— Обожди, дай я, — сказал он быстро. Он что-то сделал пальцами, и полы смокинга разошлись. — Вот. — И он глубоко вздохнул.
Маленькое красновато-черное пятнышко нарушало белизну пикейного жилета слева, под сердцем.