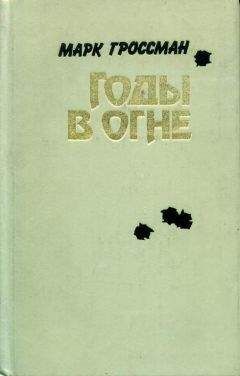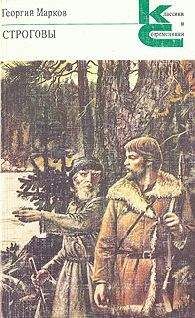Марк Гроссман - Камень-обманка
Чудновский объявил приказ ревкома.
Пепеляев заплакал навзрыд, по-бабьи, упал на колени и все совал в руки чекиста какую-то бумажку, прося прочесть ее и сохранить ему жизнь.
— Что такое? — спросил Чудновский, взяв из его дрожащих пальцев вчетверо сложенный листок.
— Прошение… на имя ВЦИКа… — бормотал Пепеляев, и слезы градом катились из его маленьких мутных глаз. — Меня помилуют… я буду работать… Мы миримся с Советской властью. Оба… с братом…
— Странно, — покосился на него председатель ЧК. — Насколько я знаю, вы только то и делали, что призывали, требовали уничтожать красных, их власть, их партию. И вдруг воспылали к вашим врагам… Вам никто не поверит.
— Нет, нет — верьте, верьте…
— Это бессмысленно, и я должен выполнить приказ.
— Господи! — рыдал Пепеляев. — Я обманулся в жизни. Я совсем не учел обстановку… Его имя стало так одиозно…
Он имел, разумеется, в виду Колчака.
— Умереть достойно не можете, — сказал Бурсак, и в голосе его было презрение, одно презрение, даже без ненависти.
Приговоренные в кольце конвоя прошли в тюремную контору.
Когда все формальности были уже почти закончены, Колчак внезапно приблизился к Чудновскому, сказал, глядя в сторону:
— Я настаиваю на свидании с женой.
— Ваша жена за границей, господин адмирал. Вы это знаете, надеюсь, не хуже нас.
— Я говорю о госпоже Тимиревой.
— Вы обязаны понимать обстановку. В такое время не до свиданий с возлюбленной.
— Но это несколько минут. Она — рядом.
— Нет, мы настоятельно просили Анну Васильевну покинуть тюрьму. Ее здесь нет. Извольте идти.
На улице было по-прежнему морозно, но небо очистилось от туч, и в высоте безжизненно мерцало круглое бабье лицо луны.
Конвой образовал два кольца, внутри которых двигались люди, залившие Урал и Сибирь кровью. В первом кольце шагал Колчак. Он шел чуть сутулясь, расстегнув верхние крючки шубы, и лишь изредка бросал на Чудновского взгляды, полные бессильной ненависти. Адмиралу теперь казалось, что он мало порол, вешал и убивал большевиков, их баб и детей. И вот — должен расплачиваться за это жизнью.
Во втором кольце семенил Пепеляев. Экс-премьер передвигал ноги, будто тяжело больной, запинался, шептал молитвы и проклятия.
Колчак изредка останавливался, смотрел через штыки конвоя на Пепеляева и презрительно кривился.
Адмирал хорошо знал город и догадывался: идти до смерти придется недолго — одну, может быть, две версты. Почти сразу за тюрьмой горбятся окраинные улочки с редкими домами, лежат заваленные снегом пустыри.
Председатель ЧК шел впереди, не оглядываясь. Адмиралу казалось, что этот невысокий солдат совсем забыл о нем, Колчаке.
Чудновский, и в самом деле, шел в глубокой задумчивости. Он размышлял о жизни, о превратностях, которые ждут человека на избранном и неизбранном пути. Подпольщик и революционер, Чудновский сам не раз бывал близок к смерти, и сегодня смерть стоит рядом с ним. Через час или через сутки он может умереть под пулями каппелевцев, но революция не умрет, это он знает наверное, и ради этого стоит заплатить собственной жизнью.
Смерть будет рядом с ним и завтра, она была с ним вчера, когда он сидел в одиночке иркутской тюрьмы, куда его бросила гнусная и злобная власть, названная именем человека, шагавшего сейчас за его спиной. Власть, которая вобрала в себя все, что было в стране самого подлого, самого ненавистного народу в тот час, когда труд поднялся на плутократию.
Чрезвычайная комиссия только начала следствие, предстояло еще многое сделать, чтобы пригвоздить к столбу позора «колчакию» и Колчака. Но в планы ревкома и комиссии вмешались орудия Войцеховского — последняя надежда диктатора и палача.
И вот экс-правитель отмеривает свою последнюю версту. Вполне возможно, Колчака попытаются отбить заговорщики, и Чудновский погибнет, выполняя долг. Но что бы ни случилось, он успеет разрядить наган в осужденных. Что бы ни случилось.
…Где-то неподалеку, вероятно, между кладбищем и женским монастырем, разорвался крупный снаряд. Чудновский подумал, что это последний жалкий салют Войцеховского своему правителю.
Наконец подошли к Знаменскому кладбищу. Чудновский взглянул на часы, было без четверти пять. Он приказал охране остановиться. Конвой разомкнул кольцо и вывел осужденных к подошве горы, на которой мерцали кресты погоста. Невдалеке поблескивала льдом Ушаковка.
Чудновский выстроил солдат в одну линию и обратился к ним с коротким словом. Он говорил о преступлениях этих двух людей, об их бесчинствах и зверстве, о смерти, к которой их приговорила революция.
Затем конвой по команде, загнул края шеренги, образовал полукруг и вскинул винтовки.
И в морозном воздухе прозвучала негромкая команда, которую, однако, услышали все:
— По врагам Революции и России — огонь!
Прогремел залп, и через короткий промежуток — еще один.
Комендант тюрьмы подошел к Бурсаку.
— Куда девать трупы?
Из шеренги выскочил чернобородый дружинник с длинными руками, крикнул, скаля зубы:
— В Ангару их, богатеньких! К рыбам на верхосытку!
Бурсак сухо кивнул головой. Тотчас к подошве горы подъехали розвальни, трупы положили в холщовые мешки, и лошадь, мотая закуржавевшей головой, потащила сани к Ангаре.
Остановились возле женского монастыря, и все спустились к реке по тропинке, которую протоптали обитательницы монастыря.
Во льду была прорубь, уже успевшая покрыться тонким ледком.
Пока дружина расчищала дыру, чернобородый вертелся возле Чудновского, наконец сказал чекисту:
— Теперь их высокоблагородию шапка ни к чему. Имею желание обменяться с покойничком. Можно?
— Фамилия? — мрачно поинтересовался Чудновский. — Кто такой?
— Мефодий Дикой, — отозвался дружинник. — Левым есером записан. Так можно шапочку реквизировать или отказ?
Чудновский подошел вплотную к Дикому, рванул его за отворот шинели, но в ту же секунду резко убрал руки.
— Я тебе покажу шапку, дурак!
Дикой отошел за спины дружинников, негромко выругался.
— Начальство — всегда начальство, разве ж оно бедного понимает? Шапку, вишь, пожалел для человека, идол!
Мешки спустили в прорубь, и конвой, закинув винтовки за плечи, построился в два ряда.
Шагая рядом с Бурсаком, Чудновский прислушивался к звукам, доносившимся к Ушаковке от Иннокентьевской и Олонков. Пушки стреляли вяло, пулеметы молчали: Войцеховский, кажется, выдохся.
Зашли в тюрьму. Быстро оформили бумаги и отпустили дружину.