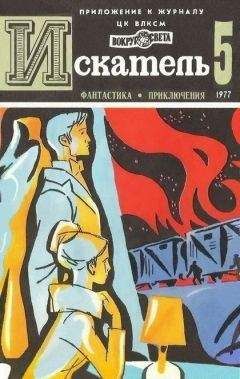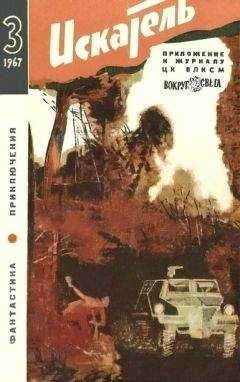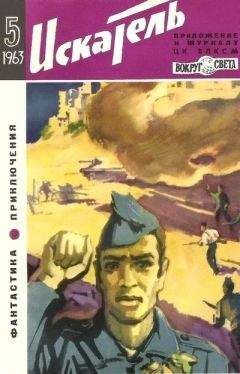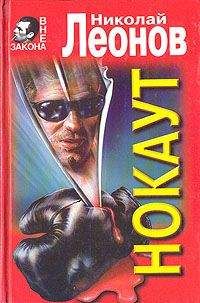Николай Коротеев - Искатель. 1974. Выпуск №3
Шарапов сел на стул, водрузил на носу очки, провел рукой по своим белесым седым волосам, потом спросил:
— Саша, у тебя сигарета есть?
Сашка уже зашелся своей синюшной бледностью, и голос у него в такие моменты становился высокий, ломкий, как у мальчишки:
— Не дам я вам сигарету — вы уже год как не курите!
Шарапов усмехнулся, закинул ногу на ногу и сказал совершенно спокойно:
— То, что ты заботишься о моем здоровье, это хорошо. Но младшие по званию должны не только уважать свое начальство, но и слушаться его. С этим у тебя как раз похуже. А теперь давай сигарету и слушай меня внимательно…
Сашка нехотя протянул ему пачку. Шарапов не спеша размял сигарету, прикурил, глубоко со вкусом затянулся.
— Лет двадцать тому назад был у нас один работник — Третьяков. Следователь был незаурядный и результаты получал фантастические. У него не бывало «нерасколовшихся» преступников — гремел мужик! И довольно долго. Пока однажды мы с Ильей Ляндресом не взяли на одной «малине» Фомку Крысу. Был такой довольно противный бандит — осторожный, злой, как настоящая крыса. Стали мы его мотать, а допрашивал, надо сказать, Илья отлично, ну, короче говоря, признался Фомка в убийстве на Банковском переулке. Подняли мы материалы — убийство три года назад было совершено — и обомлели. Преступление раскрыто, убийца найден, осужден и отбывает двадцатилетнее наказание. Мы вызываем дело к себе, читаем. Сначала обвиняемый категорически отказывался, довольно долго, а потом признался — сам Третьяков расследовал. Возобновляем дело по вновь открывшимся обстоятельствам и начинаем с ним пыхтеть дни и ночи. И доказываем, что убийство совершил Фомка Крыса, а осужденный никакого отношения к нему не имеет…
— А зачем же он признавался? — спросил Сашка.
— А его Третьяков уговорил — улики, мол, неопровержимые, человек ты с подмоченной репутацией, единственный шанс не получить «вышку» — чистосердечное признание, хоть жить будешь. Слабый человек оказался — и согласился. После этого произвели ревизию всех дел Третьякова, и выяснилось, что такие номера он не один раз откалывал…
— А какое это отношение к Стасу имеет?
— А такое, что у человека на носу не написано — честный он работник или негодяй. Поэтому Батону — коли мы не доказали, что он вор, — предоставлены все гражданские права для защиты. Да и если бы доказали — все одно. Это, знаешь ли, гарантия того, чтобы с людьми не вытворяли третьяковских штучек.
Я сказал Шарапову:
— Если вдуматься, то выходит, что у Батона сейчас этих прав даже больше, чем у меня…
— Конечно, — живо сказал Шарапов, — А почему бы нет? Мы не доказали, что Батон вор. Это мы, можно сказать, для себя знаем, что Батон вор. Но пока не оформили установленным законом способом, он обычный советский гражданин. А у всякого гражданина прав не меньше, чем у тебя. Это ведь ты служишь обществу, а не оно тебе.
— Ой, батя, не говори ты со мной казенными словами!
Шарапов развел руками:
— Ну казенными или домашними — суть-то не меняется, и ты знаешь, что я говорю правду. А вообще-то, все правильно…
— Что правильно?
— Наша работа — игра жесткая, и ни одного промаха не прощается. Мы пропустили свою очередь для удара, поэтому его нанес Батон. И так будет всегда…
— Садитесь, — сказал комиссар, набирая номер телефона.
Мы с Шараповым уселись сбоку от длинного стола для совещаний. Комиссару, видимо, ответили, потому что он быстро сказал:
— Это Лебедев докладывает. К сожалению, новых данных не поступило… Но ведь это же не от нас зависит, Александр Васильевич. Мы бросили на реализацию и так лучшие силы. Что?! Да, у меня там люди в засаде сидят неделю без смены. А без ошибок только бюро прогнозов работает… Они вам, а вы мне мылите шею. Так не чугунная же она… Вот возьмем его, и успокоится общественность… Есть, есть, слушаюсь. В семнадцать часов снова буду докладывать.
Он положил трубку на рычаг и усталым движением провел ладонью по шее, будто ему и впрямь ее крепко натерли. Я понял, о чем он говорил, — на прошлой неделе наши ребята наконец вышли на след человека, убившего в Энергетическом институте двух девушек, но взять его пока не могли. И, по всей видимости, «вливания» делались не только им.
Комиссар рассеянно и сердито посмотрел на нас и сказал:
— Что у вас? Слушаю…
Шарапов, привыкший к начальству больше меня, спокойно ответил:
— Вызывали, товарищ комиссар. Насчет жалобы.
Комиссар внимательно смотрел на меня, наверное, вспоминал, о какой жалобе идет речь, постукивал пальцем по столу. А я очень сильно не люблю, когда начальство начинает выстукивать пальчиком по столу, не нравится мне это. Потом он медленно сказал:
— Жалоба на тебя, Тихонов, поступила… Удивляюсь…
Тут я понял, что до этого мгновения он нас вообще не замечал, а продолжал мысленный разговор со своим телефонным собеседником.
— Я думаю, что, если бы от вора-рецидивиста Дедушкина на меня поступила благодарность, вы бы еще больше удивились, — выпалил я обиженно, и мне показалось странным, что молчит Шарапов: он же ведь все знает…
Комиссар перестал стучать пальцем, прищурился:
— Всякое бывает. И благодарности приходят.
— От Дедушкина я не дождусь, — пробормотал я, а Шарапов все молчал.
— А ты что, действительно грозился? — застучал снова комиссар.
Я почувствовал, как раздражение подкатывает к горлу.
Шарапов продолжал молчать, и я невольно стал отводить от него взгляд.
— Можно и так сказать. В тюрьму обещал посадить.
— Ну-у! — удивился комиссар. — А чего это ты так расходился?
Я посмотрел на него, комиссар вроде повеселел, взял карандаш и стал быстро делать пометки на кипе лежащих перед ним листов. И мне стало досадно, что такой важный для меня разговор — всего лишь пустячный эпизод в заполненном событиями и разговорами рабочем дне моего шефа. Чего мне объяснять ему? И Шарапов помалкивает. Я встал и, уже начав говорить, понял, что голос у меня предательски дрожит:
— Товарищ комиссар, разрешите быть свободным! Все обстоятельства дела я изложу в рапорте на ваше имя…
Комиссар, не отвечая, дописал что-то на листочке, сказал Шарапову:
— Владимир Иваныч, у тебя в отделе с дисциплиной плоховато. Если этот мальчишка со мной так разговаривает, что же он себе с Дедушкиным напозволял?
— У Тихонова сдвиг в другую сторону — деликатничает в избытке с обвиняемыми, а потом дерзит, начальству…
— Так ты, Тихонов, на меня обиделся, что ли? — спросил комиссар.
Я пожал плечами: чего, мол, мне обижаться?