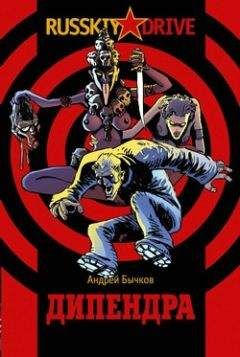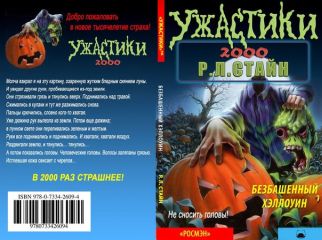Андрей Черетаев - Сибирский Робинзон
— Семужка, — простонал я, обливаясь слюнями. От одного рыбного аромата у меня свело больную челюсть.
Хлеб был тонкий, и разогреть его на огне было не сложно, и вскоре мягкий, теплый хлеб, сыр и рыба источали божественный аромат, достойный богов (если они несколько дней голодали).
Прежде чем откусить, хотя это не совсем верное слово, ибо кусать, то есть «хватать, рвать, вгрызаться, отхватывать» я не мог физически. Отламывая по маленькому кусочку, я медленно отправлял его в рот, на язык. Я ощущал себя эпикурейцем, вернувшимся из мрачной тюрьмы капризного тирана и теперь в кругу верных друзей отмечающим чудесное избавление от смерти.
С закрытыми от блаженства глазами, покачивая головой под аккомпанемент мерно потрескивающего пламени, ваш покорный слуга наслаждался жизнью.
Но как это бывает, мы не удовлетворяемся имеющимся у нас, ударяемся в крайности. И с бесшабашностью глупого отрочества, наглостью юношества и пресыщенностью среднего возраста пускаемся во все тяжкие, совершенно не думая о себе и, что самое печальное, о возможных последствиях.
Постепенно скромный ужин отшельника перешел если не в шумную оргию эпохи упадка Древнего Рима, то в последнюю трапезу приговоренного к казни аристократа. Совсем потеряв голову от счастья, я присосался к бутылке и налакался до чёртиков. Я набрался до такого состояния, что мне вдруг показалось, что я сижу на берегу океана, чьи изумрудные волны омывают многочисленные далёкие и близкие райские островки. И надо мною черное-пречерное, словно уголь, небо, осыпанное мириадами ярких перемигивающихся звёзд.
Ночь давно опустилось на тропики. Было тепло. Слабый ветерок, нежно поглаживая лицо, принес чуть уловимый аромат неизвестных цветов. Мне было хорошо, и уходить совсем не хотелось. Ведь я так давно мечтал вырваться из окружавшей меня повседневности, однообразной жизни, где каждый день как две капли воды похож на вчерашний, и где завтрашний день будет близнецом своего предшественника.
Только одного я никак не мог понять: почему я здесь один. Не вижу рядом с собою мою дорогую Еву, и вообще никого. Очень странно. Это доставляло мне некое душевное волнение, тревогу. Я гнал ее прочь, но всё равно иногда мне становилось страшно. И тогда я беспокойно ёрзал, вздыхал: оказывается, это очень страшно — быть одному… в Раю.
Я заметил лунную дорожку, бежавшую через весь океан. Она начиналась где-то у горизонта, а заканчивалась почти у моих ног, словно праздничный ковёр, выстланный для знатного гостя. Лунная дорожка приглашала меня.
«Может быть, мне следует пойти, — пьяно улыбнувшись, я отрицательно покачал головой, словно говоря. — Не-ет, мне и здесь хорошо».
Возле моих ног стоял небольшой глиняный кувшин с вином — лишний повод никуда не ходить. А зачем? После глотка из волшебного кувшина все страхи, сомнения и заботы испарятся, останется одна лишь ленивая и безмятежная нега. Мне было хорошо, впервые за много недель…
Я сделал ещё один глоток и, когда отставил кувшин в сторонку, то увидел Еву. Сначала я страшно обрадовался, но потом удивился, ибо Ева стояла на лунной дорожке, и пальчиком подзывала меня. Я был совершенно сбит с толку, не зная, что и думать. Ева засмеялась, сделала несколько шагов вдаль, обернулась и снова поманила. Не двигаясь с места, с открытым от удивления ртом, я смотрел и смотрел, как она, безнадежно махнув рукой, уже не оглядываясь, пошла прочь. Ева уходила туда, где горизонт прижимался к небу, где мне её уже не догнать и не найти.
— Ева, Ева, постой же, подожди! — закричал я, и бросился следом за нею. Но, вскочив, я крепко приложился макушкой о верхнюю притолоку двери, ведущей в туалетную кабинку разбившегося самолета. Ноги мои подкосились, я рухнул и забылся пьяным сном…
Глава девятая
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
…Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти…
В. Цой«Нет, так пить нельзя… Ох, и плохо мне… Ну и угораздило меня так обожраться! Боже, как мне хреново… И как пить хочется! В глотке всё пересохло… Боже ты мой, как же раскалывается голова!»
Приблизительно такими были мои первые мысли, когда утром я открыл глаза. Было жутко холодно. Ног я совсем не чувствовал. Все мои органы работали сами по себе и не собирались для общего блага кооперироваться. Голова кружилась, как стриптизёрша. Ноги голову не слушались, одна спорила с другой, но вместе они игнорировали указания свыше. Любая попытка одной из ног встать и перейти к выполнению своих функциональных обязанностей заканчивалась подножкой соперничающей конечности. В конце концов, они сцепились друг с другом и, видимо, больше не собирались расцепляться. Желудок с печенью долго пытались вырваться наружу, но, оставив безуспешные попытки бегства, провозгласили суверенитет от головы и ног и принялись за саботаж, не желая иметь ничего общего с другими соседями.
Прийти в себя после вечерней оргии было не легко. Я срочно нуждался в стакане томатного сока, тёплой ванне, тайском массаже и медитации. Но получить эти удовольствия не представлялось возможным. Мне оставалось только мечтать и использовать собственные силы, так сказать, пустить в ход резервы, но прежде их следовало найти.
Ах, как разнились между собой жаркий, веселый вчерашний вечер и сегодняшнее грустное, холодное утро! Костёр давно предательски погас, отдав меня на съедение страшному холоду. Вечернее благодушие сменилось жалкой беспомощностью.
К привычному уже голоду и холоду добавилось крайне неприятное специфическое чувство алкогольного отравления. Срочно требовалось медицинское вмешательство, какие-нибудь таблетки или полстаканчика опохмелки. Последний вариант был предпочтительнее. Я с трудом дотянулся до бутылки с текилой, но при виде мексиканского самогона меня вырвало.
«Всё-таки отравился, — определил я диагноз, — алкогольная интоксикация».
При очередной попытке встать моё тело взбунтовалось, ноги подкосились, и я мешком повалился на пол. Голова, ничего не соображая от стремительного кружения, отказывалась вообще что-либо предпринимать. Я решил взять тайм-аут и, набравшись терпения, подлечиться продолжительным сном.
Заснуть не получилось, но, отлежавшись, я почувствовал себя лучше, голова кружилась, но уже не так сильно, тошнота стала терпимой.
Подчас добиться контроля над собственным телом так же тяжело, как утихомирить разбушевавшегося начальника, которой узнал, что его коварные подчиненные объявили тихую забастовку и больше не намерены потакать его «новациям». Однако я не мог позволить себе идти на поводу у ослабевшего организма и, как он не сопротивлялся, но я заставил ноги и руки исполнять приказания сумасшедшей головы.