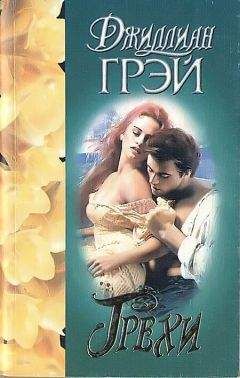Том Харпер - Книга тайн
— А вот моя работа идеальна.
Публика, понимая, что происходит, начинала смеяться. В сравнении с молочно-белыми страницами и ровным текстом моей Библии, его пергамент являл собой жалкое зрелище. Края были захватаны, кожа пожелтела (мы предыдущим вечером пролили на нее пиво), а слова под вязью исправлений были почти не видны.
— Здесь нет ни одной ошибки, — заявлял он.
— И здесь тоже, — отвечал я.
Он сгибался чуть не пополам, выставляя свою задницу публике, и водил носом по страницам Библии.
— Да, я не вижу ошибок, — неохотно соглашался он.
Ропот публики.
— Но повезти один раз может любому.
Я поднимал еще два экземпляра и демонстрировал их.
— А три раза? А если вы посетите мою мастерскую в Майнце, то найдете еще сотню таких же, готовых к продаже. И все они одинаковые в своем совершенстве.
Петер Шеффер (а именно он и был негодующим писцом) выпячивал грудь.
— Я тебе могу сделать не меньше. — Он начинал загибать пальцы в яростных арифметических подсчетах. — Они будут готовы к тысяча пятисотому году.
— А у меня они будут готовы к июню. — Я повышал голос, обращаясь к толпе. — Любой, кто хочет купить Библию или увидеть этот новый чудесный способ письма, может посетить меня до вторника в моем временном жилье под знаком дикого оленя. Или после этого в Майнце в «Хоф цум Гутенберге».
Многие люди из толпы проталкивались к нашему прилавку, желая узнать больше. Шеффер снимал свой сюртук, расчесывал волосы и присоединялся ко мне за столиком.
— За два года двадцать человек сделали почти две сотни этих книг, — услышал я, как он хвастается двум голландским торговцам.
Я лягнул его под прилавком: не следовало раскрывать все тайны нашего искусства или даже наводить людей на мысли, как можно добиться этого.
Но прежде чем я успел что-либо сказать, новый клиент потребовал моего внимания. Я увидел его издалека, вернее, увидел сутолоку, которая возникала с его приближением в толпе, расступавшейся перед ним. Я видел только вершину его митры. Но даже и она лишь едва возвышалась над окружающей толпой. Я разгладил на себе одежду и поправил тетради на столе.
— Епископ Триестский, — объявил священник.
Я поклонился.
— Ваше преосвященство.
— Иоганн?
Шапка с заостренным концом откинулась назад. Мне ухмылялось чисто выбритое смугловатое лицо. Но и тут я не понял, кто передо мной: титул ослепил меня и я никак не узнавал стоявшего передо мной человека.
— Эней?
— Эней стал более благочестивым. Ты клялся, что никогда не примешь сана.
— Разве? — Эней, казалось, был искренне удивлен. — Видимо, я имел в виду, что в то время я еще не был готов для этого.
Мы разговаривали в галерее собора. С другой стороны площади целая толпа священников и приспешников смотрела через двери, задаваясь вопросом, кто я такой.
— Когда я в последний раз видел тебя в Штрасбурге, ты заседал в соборе и строил козни против Папы. — Я показал на его богатые одеяния. — Теперь ты его посол.
— Я ничего не отрицаю. Это был грех неведения. Я умолял Папу о прощении, и он даровал мне его.
Он сказал это вполне серьезно, но даже у Энея это не получилось естественно. У меня возникло ощущение, что он повторял эти слова много раз.
— И еще ты пытался соблазнить замужнюю женщину. У тебя это получилось?
У него хватило такта покраснеть, хотя скорее от сожаления, чем от смущения.
— Говори потише. Ты знаешь, что небеса более благосклонны к одному раскаявшемуся грешнику, чем к девяноста девяти абсолютно безгрешным.
Мы завернули за угол галереи.
— Истинно тебе говорю, я уже не тот человек, каким был, когда ты видел меня в последний раз. Базельский собор… — Он взмахнул рукой, словно чтобы развеять дурной запах. — Они были такие зануды, Иоганн. Они не понимали, что их дело проиграно. Они обвиняли Папу, обвиняли друг друга. Некоторые даже обвиняли меня. В конечном счете мне был предложен пост секретаря при императоре Фредерике, и я принял его. Я поехал в Вену.
Он улыбнулся мне, забыв про свой гнев.
— Если в христианском мире есть более скучный город, то я молю Бога, чтобы никогда его не увидеть. Евреи в Вавилоне страдали меньше, чем я в моей ссылке. Но неисповедимы пути Господни. При этом расколотом, раздираемом распрями и интригами дворе я понял, что наш друг Николай был прав. Главное — это гармония.
— В Штрасбурге тебя больше волновало совершенство, а не гармония, — напомнил я ему.
— Но разве совершенство может существовать без гармонии? Гармония — это фундамент совершенства. И ты с твоими книгами достиг того и другого. Они настоящее чудо.
— Если это и чудо, то достигнуто оно потом и кровью. — Я подумал об Андреасе Дритцене, об обезображенном лице Каспара.
Он прикоснулся пальцами к моей руке.
— Я ничуть не умаляю твоих заслуг, Иоганн. Ты удивительнейший человек. Воистину, multum ille et terris iactatus et alto.[54] Покажи-ка мне еще раз твои странички.
Я протянул ему тетрадь, которую захватил с собой.
— Абсолютно ни одной ошибки, — с удивлением проговорил он. — И что ты там сказал в своей речи — что у тебя есть еще сотня таких же? Это правда?
— Почти две сотни.
— И как ты это сделал? — Он увидел выражение моего лица и поспешил на попятную. — Я знаю, ты должен хранить свои секреты. Но это — я повторяюсь, но другого слова нет — настоящее чудо. И ты можешь сделать что угодно, используя твое искусство?
— Все, что может быть написано.
Это привело его в сильное возбуждение. Он, продолжая опираться на свою палку, словно танцевал по галерее. Когда мы добрались до следующего угла, он воскликнул:
— Ты только представь, Иоганн! Одна и та же Библия, одна и та же месса, одни и те же молитвы во всех церквях христианского мира. Одни и те же слова в Риме и Париже, Лондоне, Франкфурте, Виттенберге и Базеле. Эти колонки на твоей странице станут опорами церкви, более прочными, чистыми и цельными, чем что-либо. Услада Господу.
— Это всего лишь книга, — возразил я.
— Но что такое книги? Чернила и пергамент? Множество знаков, нацарапанных пером на странице? Тебе это известно лучше. Это осадок испарений чистой мысли. — Он помедлил мгновение, очарованный собственным красноречием. — Христос и святые могут обращаться напрямую к нам, но чаще они говорят посредством книг. Если ты можешь создавать их в таких количествах и с таким безупречным текстом, то весь христианский мир заговорит столь громким голосом, что его будет слышно на небесах.
Его слова согревали меня на протяжении всей обратной дороги в Майнц. Я пересказал их Петеру, и мы приятно провели время, беседуя обо всех книгах, которые можем сделать и продать во благо церкви. Меня это радовало, потому что отношения между нами всегда оставались напряженными. Нередко мне казалось, что его энтузиазм по отношению к нашей работе слишком агрессивен, а потому я осаживал его. А если я все же пытался его приободрить, он воспринимал это как навязчивость. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что он был одержим работой над книгами и ревниво к ней относился, а потому не доверял ничьим мотивам, кроме собственных.