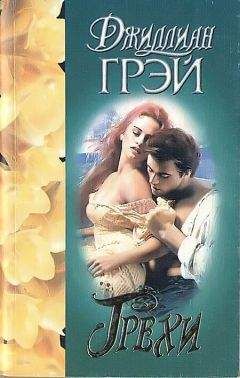Том Харпер - Книга тайн
В 1947 году замок был продан анонимному покупателю. Он закрыт для публики, но его по-прежнему можно увидеть с реки и задать себе вопрос, что же происходило за этими древними стенами».
— Последнее предложение звучит не без доли грусти, — сказала Эмили. — Словно автора, как и нас, разбирает любопытство.
— Это дурное место. — Официант возвратился с хлебницей. Он понизил голос и оглядел пустой ресторан, подпуская драматизма. — Мой дед как-то говорил мне, что во время войны туда часто наведывались нацисты. И всегда посреди ночи. Он говорил, что там бывал даже рейхсминистр Йозеф Геббельс.
Ник хотел спросить, что тут нужно было Геббельсу, но в этот момент женский голос позвал официанта на кухню. Тот извинился и ушел, а Ник снова занялся книгой.
Он раскрыл ее и положил на стол перед Эмили. Изображение было темным и четким: одинокий замок на скале в ущелье между двумя еще более высокими горами. Тяжелые линии на фоне низкого неба, а на переднем плане бурлит черная река.
— И мы должны посетить это место?
— Именно это и сделала Джиллиан. — Ник положил рядом набросок карты.
По книжной иллюстрации трудно было понять план замка, но они увидели две башни, которые могли соответствовать выступающим углам на пятиугольнике Джиллиан, и еще одну башню — невысокую, приземистую, видимо, сторожевую.
— Наверное, это оно.
— Действительно, Папа как будто был готов на многое, лишь бы монастырь оставался в безопасности. Там, наверное, хранилось что-то такое, что, по его мнению, не должно было попадаться на глаза протестантским реформистам.
— Или нацистам.
Эмили разглядывала план.
— И как же она туда попала?
— Посмотри на эту башню, — Ник показал на место, помеченное крестом, — вот она, сзади. Видимо, Джиллиан нашла там вход.
Эмили прочла список, оставленный Джиллиан на полях.
— Или прокопалась туда лопатой, освещая проход нашлемным фонарем.
— Давай-ка сымпровизируем. — Ник махнул рукой, подзывая официанта, и, когда тот подошел, сказал: — Наша машина застряла в снегу перед въездом в деревню. Может быть, у вас найдется лопата и кусок веревки — мы все вернем.
Официант удивленно посмотрел на них, но он был слишком вежлив и не поставил слова Ника под сомнение. Он вышел и через пару минут вернулся с садовой лопатой, фонарем и бухтой синей нейлоновой веревки.
— Идеально.
Ник последними евро расплатился, жалея, что не может дать чаевые побольше, надел куртку и взял лопату.
Официант открыл для них дверь, и от порыва ветра, занесшего внутрь снежинки, задребезжали бокалы на столе. Официант вгляделся в темную улицу.
— Желаю удачи.
LXXVIII
Франкфурт, октябрь 1454 г.
Когда мы возвращаемся в места нашего детства, то, что у нас в памяти сохранялось как нечто большое и величественное, оказывается маленьким и жалким. Франкфурт был иным. Весь мир, казалось, съехался сюда на Веттераускую ярмарку. Палатки ткачей превратили одну из площадей в городок всех вообразимых цветов и плетений: от тяжелых фланели и габардина до легчайших византийских шелков, переливавшихся, как ангельские крылья. Из крытого рынка доносился запах духов и бесчисленных специй: перца, сахара, гвоздики, чеснока и многих других, мне неведомых.
Я поставил наш лоток на углу рынка между изготовителями бумаги и пергамента. Сюда мало кто заглядывал (хотя товаров на ярмарке было множество, книги продавали только мы), и я надрывался, зазывая покупателей, пытаясь перекричать ярмарочный шум. После стольких лет затворничества и секретности я с трудом заставлял себя говорить.
Сюда должен был приехать Фуст. Он был торговцем, и это он замыслил план показать плоды наших трудов. Но днем ранее он пошел на попятный, сказался больным, а потому отправляться пришлось мне. Хорошо, что так получилось. Я в последнее время почти не выходил из Хумбрехтхофа. Приближался назначенный Фустом срок, а мы все еще отставали от графика с нашими Библиями. И постоянные мысли об этом (расчеты и перерасчеты графика, поставок, человеко-часов) тяжелым грузом давили мне на плечи. Я боялся этого путешествия. Я не мог представить себя без проекта или проект без меня. Но Фуст настоял.
— С тобой для пользы дела поедет Петер.
Но уже через час после того, как мы отправились во Франкфурт, я понял, что Фуст был прав. Осенний воздух разрумянил мне щеки, прояснил мысли. Запах спелых яблок и листьев откупорил мои чувства. Даже крики перекупщиков, которые рисковали навлечь на себя гнев властей, предлагая товар за пределами рынка, казались скорее звонкими, чем раздражающими. Тем вечером в гостинице я завязал разговор с другими торговцами и лег спать гораздо позднее, чем обычно, выпил больше обычного, отчего наутро у меня болела голова.
В первый день ярмарки к моему лотку подошли всего три человека. Я чуть не насчитал и четвертого, но он всего лишь хотел узнать, где расположились дубильщики. Занятий у меня никаких не было, кроме как щелкать блох, которые досаждали мне предыдущей ночью. То удовольствие, что я испытал, покидая Майнц, таяло. Я в уме составил длинную раздраженную претензию к Фусту, отправившему меня с этим бессмысленным поручением. Но во второй половине дня поток посетителей увеличился. На следующее утро я уже едва мог справляться с ними. Многие из них были священниками и монахами, но, видимо, они благоприятно отозвались о том, что видели. И вскоре уже более богатые руки прикасались к страницам, на фоне пергамента сверкали толстенные золотые перстни. Я видел аббатов, архидьяконов, рыцарей. И в конечном счете, нежданно-негаданно — епископа.
Каждые полчаса происходило что-то подобное этому: я стоял за прилавком, расхваливая выдающиеся качества моих книг, когда молодой человек в одежде, заляпанной чернилами, и с растрепанными волосами начинал шумно протискиваться сквозь толпу к моему прилавку. Он обшаривал взглядом страницы Библии, потом поворачивался к толпе и громко заявлял:
— Этот человек мошенник.
Он открывал тетрадь так, чтобы все видели.
— Этот человек говорит, что текст совершенен, но он даже не удосужился его прочесть. Тут нет ни одной правки.
Он шарил под своим сюртуком, доставал и разворачивал свиток пергамента, затем показывал его толпе.
— А вот моя работа идеальна.
Публика, понимая, что происходит, начинала смеяться. В сравнении с молочно-белыми страницами и ровным текстом моей Библии, его пергамент являл собой жалкое зрелище. Края были захватаны, кожа пожелтела (мы предыдущим вечером пролили на нее пиво), а слова под вязью исправлений были почти не видны.