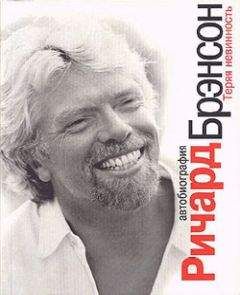Григорий Карев - Твой сын, Одесса
Первыми вышли на улицы бесстрашные одесские мальчишки. Одетые в пестрое рванье, сперва робкими парами, а затем горластой оравой с раннего утра дотемна, до комендантского часа, толклись они на привокзальной площади. Торговали табаком, сигаретами, мылом, порошком от вшей и чесотки, старыми лезвиями для бритв, бриллиантином, зеленкой, камушками для зажигалок и разной мелочью. Каждый, расхваливая свой товар, старался перекричать других. Военных побаивались, но на штатских налетали, как воробьи на конопляный сноп, совали в руки, тыкали под самый нос всякую дребедень:
— Две леи, домнуле[1], две леи!
— Купите помаду, домнуле! Мама умирает с голоду!
Но домнуле презрительно отмахивался от ребятишек и только, если видел флакон «Красной Москвы» или пачку румынского табака, жадно тянулся к ним руками.
— Десять марок, господин! Сестренке на лекарство надо! — со слезой в голосе взывал счастливый обладатель товара.
Домнуле вертел в руках пачку табака, нюхал, самодовольно прищелкивая языком:
— Тутун Румания?! Ай, бун тутун. Бун тутун! Бун Румания! Ай, буи, бун Румания!
Пацан уже жалел, что мало запросил за свой товар — домнуле так хвалит табак, что, пожалуй, и двадцать марок за него не пожалел бы!
— Ай, бун, бун тутун! Карош, карош табак!
Румын положил пачку в саквояж и долго шарил по карманам. Наконец вынул металлическую монетку в одну лею и презрительно швырнул ее мальчонке:
— Иеши афары, гемана! Пошел вон, босяк!
И сразу же за плечом домнуле выросла черная фигура жандарма.
Мальчонка застонал, как от удара. Никто не произнес ни слова, все потупили налитые ненавистью глаза и молча начали расходиться.
Но через час-полтора мальчишеская стая снова шумела на привокзальной площади. Ничего не поделаешь: дома ждут голодные семьи, а может, и больные матери, которым кусочек хлеба или хотя бы вареная картофелина очень нужны. А где их взять?
Яша в этом галдеже и суете был, как рыба в воде. Он выбивал сапожными щетками чечеточную дробь и нараспев приговаривал:
— Одесский блеск! От Гамбурга до Сингапура моряки всех флагов чистят штиблеты только одесским блеском! Перед сапогом, надраенным одесским блеском, кавалеры бреются, барышни тают и ахают, ахают и тают! Пижон должен быть пижоном даже на войне! Пятнадцать капралов, наяривших вчера сапоги одесским блеском, сегодня произведены в локотененты!..
Конечно же, ни вчера ни позавчера, ни третьего дня,, ни капралы, ни локотененты[2] у Яши сапог не чистили. Но чего только не придумаешь, чтобы тебе поверили и не погнали от вокзала!
— Последняя банка одесского блеска! Последняя банка неповторимого блеска! — выкрикивал Яша. — Рецепт утерян! Изобретатель утонул при неудачной попытке эвакуироваться. Спешите воспользоваться одесским блеском!
Яша изо всех сил старался говорить побойчее, повеселее выбивать щетками, даже улыбался каждому проходящему румыну, а в душе чуть не плакал от злости. В городе шли облавы и аресты, на афишных тумбах каждый день вывешивались приказы с угрозами расправы за малейшее «нарушение порядка»: за хранение оружия — расстрел, за связь с «агентами большевистской разведки» — полевой суд, за хождение по улицам после комендантского часа — смертная казнь, за плохую светомаскировку окон — каторга. Вывешивались списки расстрелянных. На Чумке каждую ночь слышны были автоматные очереди — то фашисты расправлялись с «подозрительными элементами». На Новом базаре и Греческой площади стояли виселицы…
Яша вспоминал листовки, которые сам расклеивал:
«…не складывать ни на минуту оружия в борьбе против немецких оккупантов. Беспощадно расправляйтесь с захватчиками, бейте их на каждом шагу, преследуйте по пятам, уничтожайте их, как подлых псов… Пусть в нашей Одессе грозно пылает пламя партизанской мести».
И оно пылало, это пламя!
Шестнадцатого октября партизаны Бадаева встретили фашистов огнем у входа в нерубайские катакомбы. На вторую ночь на нерубайском кладбище был сильный бой. Говорят, его вели моряки из отряда прикрытия. Шли они из-под Дальника в катакомбы Холодной Балки да заблудились в тумане. Пять часов горстка морских пехотинцев дралась против целого полка, почти две сотни карабинеров полегло… Кто-то бросил гранату под машину с солдатами у Дюковского парка… Обстреляли фашистскую колонну на Слободке. На Маразлиевской взлетела в воздух румынская комендатура — погибло полторы сотни немецких и румынских офицеров, собравшихся на совещание, Вот и сейчас на столбе, над самой головой у Яши, висит объявление, в котором фашисты обещают за поимку и выдачу властям главаря «диверсионной банды» десять тысяч марок. Яша улыбается — ведь это он доложил Бадаеву о назначенном в комендатуре совещании офицеров гарнизона!
Ах, как хотелось Яше быть в катакомбах, участвовать в боях, быть героем на виду у товарищей! А тут сиди в одиночестве… Иногда ему хотелось втоптать в землю коробки с ваксой и растрощить ненавистный рундучок. Но вспоминал Бадаева, его приказ и, потихоньку выругавшись, снова Яша выбивал щетками чечетку, кричал-нахваливал одесский блеск.
Фашисты не обращали внимания на рыжеватого, одетого в старые лохмотья паренька. Только однажды у Яшиного рундучка остановилось двое в темно-желтых мундирах: высокий майор с большим носом и тонкими, аккуратно подстриженными усиками и коротконогий локотенент с маленькими красными кроличьими глазками. Пьяный локотенент в чем-то убеждал майора, показывая пальцем то на Яшу, то на банки с ваксой.
— Агент секрет! Шпион!
Майор презрительно кривил губы, качал головой и отвечал односложно:
— Ну-и, нет.
«Подозревает гад, что я за вокзалом слежу, не верит красноглазый, что сапоги чищу», — догадался Яша и еще веселее забарабанил щетками по рундучку:
— Честь имею за две леи вашие ботиночки сделать, как картиночки!
Майор криво усмехнулся, а локотенент что-то буркнул ему и, выпятив большой квадратный подбородок, подошел к Яше вплотную, с размаху поставил на рундучок запыленный сапог:
— А луструй гетеле! Чисть!
В душе Яша пожелал локотененту сто болячек в самые разнообразные места и первую встречную пулю в голову, но, вспомнив наказ Бадаева быть самым угодливым чистильщиком во всей Одессе, привстал со стульчика и, растянув губы в улыбке до ушей, поклонился локотененту чуть ли не до носка сапога, схватил бархатку и ловко вытер пыль. Бормоча что-то невнятное, он так усердно натирал щетками смазанные кремом голенища, что можно было подумать: всю жизнь только и делал, что чистил офицерские сапоги.